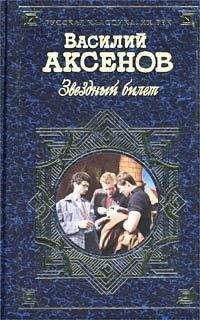В метро произошла странная история. Лева побросал в автомат все свои пятаки, но надпись «идите» так и не появилась. Сзади напирали, недоуменно ворча. Лева пожал плечами и свободно прошел через турникет — автомат на него не сработал.
В вагоне на него сел пожилой лыжник. Лева от этого никакого неудобства не ощутил, а лишь удивился бесцеремонности лыжника. Что-то в этом было удивительное — подойти и запросто сесть на человека.
«Не расплатился! — вдруг вспыхнула в Леве ужасающая мысль. — Не расплатился вчера в „Нашшараби“!»
Он бросился к выходу и уже в дверях оглянулся на невоспитанного старичка. Тот сидел в той же позе, выставив нос-грушу.
Возле «Нашшараби», несмотря на ранний час, уже дежурили мечтатели. Лева привычно встрепенулся, но мечтатели, как видно, совсем осоловели от ожидания — они даже не повернулись к кумиру нации. Андрианыч тоже бровью не повел в ответ на Левино приветствие.
Лева вошел в зал и удивился тишине и свежести, царившим там. Все столы были сдвинуты в длинные ряды, накрыты крахмальными скатертями, сервированы скромным гигиеническим завтраком — дымящиеся кофейники, поджаристые булочки, сливки, джем. Никакого намека на прогорклый запах вчерашнего «чаво».
За столами в полной тишине сидели Левины друзья и сподвижники, футболисты и хоккеисты сборных команд, братья Майоровы, Старшинов, Яшин, Численко, поэты Евтушенко, Вознесенский и Рождественский, Тигран Петросян, Спасский, Жан-Люк Годар и Марина Влади, Джон Апдайк, Артур Миллер, Дмитрий Шостакович, академик Лаврентьев, Армстронг и Элла Фицджеральд, космонавты Леонов и Армстронг Олдрин, Сартр, Высоцкий и Коненков, Вицин, Никулин и Моргунов… и много других известных и милых лиц.
Лева остановился на пороге, неуверенно поднял руку для приветствия, душа его сжалась — более страшного момента он никогда не испытывал.
И вдруг в глубине зала открылась маленькая дверца…
Некто высокий, загорелый, женский, освещенный синими глазами, в белом одеянии — уж не жена ли Нина, святая и неприступная? — двигался к нему, и в глазах была любовь.
«Неужели спасен? — подумал Лева. — Неужели спасен, спасен, спасен?»
Семья наша никогда не страдала от переизбытка родственников. Революция, война и чистки повыбили немало, да и многодетностью мы, Шатковские, никогда не отличались. Ходили, правда, слухи о каком-то колене, отделившемся от основного древа в отдаленные времена, чуть ли не в период столыпинских реформ, и подавшемся на Дальний Восток в какой-то полумифический шахтерский край. Якобы пустило там это колено многочисленные корешки в девонский слой, расцвело и зашумело ветвями на долгие десятилетия и шумит будто бы и по сей день.
Связи, однако, с этими дальневосточниками не было никакой, и на чем стояла эта легенда, понять невозможно. Может быть, просто, увы, принималось желаемое за действительность. Всегда в хиреющем нашем клане при разговорах о дальневосточниках как бы присутствовала одна невысказанная мысль — мол, если даже мы все засохнем, то уж они — никогда. Впрочем, год за годом, десятилетие за десятилетием, но даже и пышный этот миф стал худеть, и в последнее время за редкими межсемейными застольями (чаще всего тезоименитства деда Виталия) упоминание о дальневосточниках стало уже считаться чем-то вроде дурного тона. К тому же и дед Виталий уже несколько лет как отправился в вечную командировку, а стало быть, и застолья прекратились, и все очень быстро зацементировалось.
Я ловлю себя за руку на перекрестке двух пустынных московских улиц под беспощадным праздничным небом — стой, одинокое пустое существо, оглянись в отчаянии! Пятьдесят лет, ветхая дубленочка, дурацкая профессия тренера по баскетболу, вегетативная дистония… порог старости, утекающие силы…
В молодости и даже позже, в победительные мужские годы, помышляя с улыбкой о старости, я всегда почему-то представлял себе крепкий деревянный дом, двухэтажный, с мансардой, вроде родового имения (откуда?), полный жизни, кишащий детьми, животными, полный музыки и щебетания, и я в нем — глава, некий чудаковатый румяный старик в свитере и отличных сапогах, надо мной слегка посмеиваются, но, конечно же, почитают и обожают. Источник этой коннектикутской идиллии совершенно неясен, скорее всего, фильм какой-нибудь.
Разводы, первый, второй и, наконец, третий, вконец измучили меня. Где-то раскиданы по Москве ненавидящие меня женщины, среди них взрослая дочь. Бесконечные разделы жилплощади и связанные с этим обмены привели меня в конце концов в однокомнатную квартиру, в гигантский, длиной в полкилометра, дом о двадцати этажах без особых примет.
В тот вечер закатный свет разделил наш дом на два равнобедренных треугольника. Я поднялся на верхнюю ступеньку подземного перехода, ведущего из метро к микрорайону, и меня вдруг всего свело от безысходной тоски. Что это за мир, если в нем не осталось ни одного потаенного милого звука, ни одной исторической, то есть одушевленной, формы?
Морозное небо с дымами теплоцентрали и отдаленной химии, гигантское по фасаду словосочетание «Выше знамя пролетарского интернационализма!».
Все прошло, ничего не осталось… Со мной ли случилась прошедшая жизнь? В ужасе, будто хватая воздух ртом, боясь задохнуться в любую минуту или размазаться в крике по кафельной стене подземного перехода, я стал беспорядочно перебрасывать черные нечитаемые страницы… нечитаемая книга, темная… пока вдруг, как спасение (надолго ли?), мелькнул краешек света: пионерский лагерь «Пустые Кваши» над Свиягой, лежу после футбола в траве, гляжу на ранние звезды над бором, думаю почему-то о фантастической Венеции, чувствую бесконечное благо, бесконечное чье-то присутствие, ликование предстоящей жизни…
Что же получилось? Что открыло мне мое высшее натуралистическое физиологическое образование? Даже тайны клетки не открыло, такой малости. Вот так и сдохну здесь в подземном переходе от удушающей тоски, ничтожный и одинокий, потративший свою жизнь на престраннейшие занятия с мячом. Внезапно, как и явились, пропали «Пустые Кваши», серое облако с немым ревом окутывало меня, я не мог ни двинуться, ни остаться на одном месте, никому не пожелаю испытать такое состояние, когда не можешь ни двинуться, ни стоять на месте.
Вдруг оказался в людском потоке один добрый молодой человек. Очевидный провинциал, длинные волосы, спускающиеся из-под меховой шапки, делали его похожим на семинариста. Что с вами, спросил он, вам как-то не по себе? Вот странный юноша. У нас ведь здесь и через упавшего переступают, а я просто стоял. Просто, очевидно, меня вегетативная дистония сжала или, по выражению Льва Николаевича, «арзамасская» охватила тоска.
Светло-серые глаза внимательны и неформальны. Я улыбнулся через силу и сделал жест ладошкой — ничего, мол, полный хоккей. Он улыбнулся, на секунду притронулся к моему плечу рукой в вязаной белой перчатке и пошел прочь, но обернулся все-таки метров через пять, и вот, странное дело, такая малость — этот вопрос, прикосновение к плечу, улыбка и совсем уже внепрограммный поворот головы будто бы оживили меня, подействовали словно какая-то могучая инъекция.
Есть люди, способные передавать свою прану другим. Приятель, увлекающийся Востоком и эзотерическими теориями, давал мне недавно некий манускрипт, размноженный на ксероксе. По сути дела, как раз такими людьми были святые, говорил манускрипт. Все чудеса Христа не метафора, а реальность, ибо Ему свойствен был высший дар передачи праны. Человек же, находящийся в особом болезненном состоянии, ну, скажем, охваченный вегетативной дистонией, воспринимает прану гораздо активнее прочих, ему иногда и простой улыбки-то пробегающего мимо гражданина бывает достаточно, чтобы на время спастись.
Я вышел из подземного перехода, не без некоторой даже бодрости думая о том утешительном, что почерпнул из полузапретного манускрипта. Запасы праны в мире неисчерпаемы. Учитесь передавать прану, усвойте, что, передавая прану другому, вы не тратите, а, наоборот, увеличиваете ваш собственный запас.
Раньше, когда подобных манускриптов в Москве и в помине не было и когда я просто-напросто был моложе на десять лет, я, кажется, очень неплохо умел передавать свою прану другим. Во всяком случае, я умел передавать ее команде. Такое иногда случалось в напряженнейшие моменты матчей. Я брал тайм-аут, ребята окружали меня, и… возникало какое-то особое состояние, я как будто вздымался до высоты своих гигантов. Я говорил обычное: «Держи его плотнее», «Пробуй свои броски», «Проходи по центру», и ребята кивали, но смысл этих наставлений в такие моменты им был не нужен. Все тогда говорили: «У Шатка вдохновение», а вот сейчас я понимаю, что излучал могучие волны праны. Ребята заряжались в этих волнах. В такие моменты я всегда понимал, что мы выиграли.
Теперь от меня не прана исходит, а муть и тоска, похожая на застойные ссаки. Теперь моя команда выигрывает только у тех, кто заведомо слабее, да и то по инерции. Уже несколько сезонов мы проигрываем «Танкам» без всякой борьбы, а раньше хоть и проигрывали этой военной машине, но всегда дерзко, наступательно, а то и выигрывали иногда.