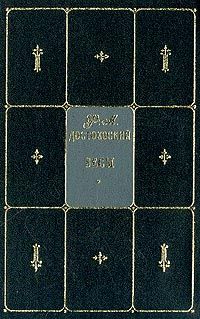Таким образом, я решился отпечатать эти листки и ввезти их в Россию в трёхстах экземплярах. Когда придёт время, я отошлю в полицию и к местной власти; одновременно пошлю в редакции всех газет, с просьбою гласности, и множеству меня знающих в Петербурге и в России лиц. Равномерно появится в переводе за границей. Я знаю, что юридически я, может быть, и не буду обеспокоен, по крайней мере значительно; я один на себя объявляю и не имею обвинителя; кроме того, никаких или чрезвычайно мало доказательств. Наконец, укоренившаяся идея о расстройстве моего рассудка и, наверно, старание моих родных, которые этою идеею воспользуются и затушат всякое опасное для меня юридическое преследование. Это я заявляю, между прочим, для того, чтобы доказать, что я в полном уме и положение моё понимаю. Но для меня останутся те, которые будут знать всё и на меня глядеть, а я на них. И чем больше их, тем лучше. Облегчит ли это меня — не знаю. Прибегаю как к последнему средству.
Ещё раз: если очень поискать в петербургской полиции, то, может быть, что-нибудь и отыщется. Мещане, может быть, и теперь в Петербурге. Дом, конечно, припомнят. Он был светло-голубой.{126} Я же никуда не уеду и некоторое время (с год или два) всегда буду находиться в Скворешниках, имении моей матери. Если же потребуют, явлюсь всюду.
Николай Ставрогин».
Чтение продолжалось около часу. Тихон читал медленно и, может быть, перечитывал некоторые места по другому разу. Во всё это время Ставрогин сидел молча и неподвижно. Странно, что оттенок нетерпения, рассеянности и как бы бреда, бывший в лице его всё это утро, почти исчез, сменившись спокойствием и как бы какой-то искренностию, что придало ему вид почти достоинства. Тихон снял очки и начал первый, с некоторою осторожностью.
— А нельзя ли в документе сём сделать иные исправления?
— Зачем? Я писал искренно, — ответил Ставрогин.
— Немного бы в слоге.
— Я забыл вас предупредить, что все слова ваши будут напрасны; я не отложу моего намерения; не трудитесь отговаривать.
— Вы об этом не забыли предупредить ещё давеча, прежде чтения.
— Всё равно, повторяю опять: какова бы ни была сила ваших возражений, я от моего намерения не отстану. Заметьте, что этою неловкою фразой или ловкою — думайте как хотите — я вовсе не напрашиваюсь, чтобы вы поскорее начали мне возражать и меня упрашивать, — прибавил он, как бы не выдержав и вдруг впадая опять на мгновение в давешний тон, но тотчас же грустно улыбнулся своим словам.
— Я возражать вам и особенно упрашивать, чтоб оставили ваше намерение, и не мог бы. Мысль эта — великая мысль, и полнее не может выразиться христианская мысль. Дальше подобного удивительного подвига, который вы замыслили, идти покаяние не может, если бы только…
— Если бы что?
— Если б это действительно было покаяние и действительно христианская мысль.
— Это, мне кажется, тонкости; не всё ли равно? Я писал искренно.
— Вы как будто нарочно грубее хотите представить себя, чем бы желало сердце ваше… — осмеливался всё более и более Тихон. Очевидно, «документ» произвёл на него сильное впечатление.
— «Представить»? — повторяю вам: я не «представлялся» и в особенности не «ломался».
Тихон быстро опустил глаза.
— Документ этот идёт прямо из потребности сердца, смертельно уязвлённого, — так ли я понимаю? — продолжал он с настойчивостью и с необыкновенным жаром. — Да, сие есть покаяние и натуральная потребность его, вас поборовшая, и вы попали на великий путь, путь из неслыханных. Но вы как бы уже ненавидите вперёд всех тех, которые прочтут здесь описанное, и зовёте их в бой. Не стыдясь признаться в преступлении, зачем стыдитесь вы покаяния?{128} Пусть глядят на меня, говорите вы; ну, а вы сами, как будете глядеть на них? Иные места в вашем изложении усилены слогом; вы как бы любуетесь психологией вашею и хватаетесь за каждую мелочь, только бы удивить читателя бесчувственностью, которой в вас нет. Что же это как не горделивый вызов от виноватого к судье?
— Где же вызов? Я устранил всякие рассуждения от моего лица.
Тихон смолчал. Даже краска покрыла его бледные щёки.
— Оставим это, — резко прекратил Ставрогин. — Позвольте сделать вам вопрос уже с моей стороны: вот уже пять минут, как мы говорим после этого (он кивнул на листки), и я не вижу в вас никакого выражения гадливости или стыда… вы, кажется, не брезгливы!..
Он не докончил и усмехнулся.
— То есть вам хотелось бы, чтоб я высказал вам поскорее моё презрение, — твёрдо договорил Тихон. — Я пред вами ничего не утаю: меня ужаснула великая праздная сила, ушедшая нарочито в мерзость.
Что же до самого преступления, то и многие грешат тем же, но живут со своею совестью в мире и в спокойствии, даже считая неизбежными проступками юности. Есть и старцы, которые грешат тем же, и даже с утешением и с игривостью. Всеми этими ужасами наполнен весь мир. Вы же почувствовали всю глубину, что очень редко случается в такой степени.
— Уж не уважать ли вы меня стали после листков? — криво усмехнулся Ставрогин.
— Отвечать прямо о сём не буду. Но более великого и более страшного преступления, как поступок ваш с отроковицей, разумеется, нет и не может быть.
— Оставим меру на аршины. Меня несколько дивит ваш отзыв о других людях и об обыкновенности подобного преступления. Я, может быть, вовсе не так страдаю, как здесь написал, и, может быть, действительно много налгал на себя, — прибавил он неожиданно.
Тихон смолчал ещё раз. Ставрогин и не думал уходить, напротив, опять стал впадать мгновениями в сильную задумчивость.
— А эта девица, — очень робко начал опять Тихон, — с которою вы прервали в Швейцарии, если осмелюсь спросить, находится… где в сию минуту?
— Здесь.
Опять молчание.
— Я, может быть, вам очень налгал на себя, — настойчиво повторил ещё раз Ставрогин. — Впрочем, что же, что я их вызываю грубостью моей исповеди, если вы уж заметили вызов? Я заставлю их ещё более ненавидеть меня, вот и только. Так ведь мне же будет легче.
— То есть их ненависть вызовет вашу, и, ненавидя, вам станет легче, чем если бы приняв от них сожаление?
— Вы правы; знаете, — засмеялся он вдруг, — меня, может быть, назовут иезуитом и богомольною ханжой, ха-ха-ха? Ведь так?
— Конечно, будет и такой отзыв. А скоро вы надеетесь исполнить сие намерение?
— Сегодня, завтра, послезавтра, почём я знаю? Только очень скоро. Вы правы: я думаю, именно так придётся, что оглашу внезапно и именно в какую-нибудь мстительную, ненавистную минуту, когда всего больше буду их ненавидеть.
— Ответьте на вопрос, но искренно, мне одному, только мне: если б кто простил вас за это (Тихон указал на листки), и не то чтоб из тех, кого вы уважаете или боитесь, а незнакомец, человек, которого вы никогда не узнаете, молча, про себя читая вашу страшную исповедь, легче ли бы вам было от этой мысли или всё равно?
— Легче, — ответил Ставрогин вполголоса, опуская глаза. Если бы вы меня простили, мне было бы гораздо легче, — прибавил он неожиданно и полушёпотом.
— С тем, чтоб и вы меня также, — проникнутым голосом промолвил Тихон.
— За что? что вы мне сделали? Ах, да, это монастырская формула?
— За вольная и невольная. Согрешив, каждый человек уже против всех согрешил и каждый человек хоть чем-нибудь в чужом грехе виноват. Греха единичного нет. Я же грешник великий, и, может быть, более вашего.
— Я вам всю правду скажу: я желаю, чтобы вы меня простили, вместе с вами другой, третий, но все — все пусть лучше ненавидят. Но для того желаю, чтобы со смирением перенести…
— А всеобщего сожаления о вас вы не могли бы с тем же смирением перенести?
— Может быть, и не мог бы. Вы очень тонко подхватываете. Но… зачем вы это делаете?
— Чувствую степень вашей искренности и, конечно, много виноват, что не умею подходить к людям. Я всегда в этом чувствовал великий мой недостаток, — искренне и задушевно промолвил Тихон, смотря прямо в глаза Ставрогину. — Я потому только, что мне страшно за вас, — прибавил он, — перед вами почти непроходимая бездна.
— Что не выдержу? что не вынесу со смирением их ненависти?
— Не одной лишь ненависти.
— Чего же ещё?
— Их смеху, — как бы через силу и полушёпотом вырвалось у Тихона.
Ставрогин смутился; беспокойство выразилось в его лице.
— Я это предчувствовал, — сказал он. — Стало быть, я показался вам очень комическим лицом по прочтении моего «документа», несмотря на всю трагедию? Не беспокойтесь, не конфузьтесь… я ведь и сам предчувствовал.
— Ужас будет повсеместный и, конечно, более фальшивый, чем искренний. Люди боязливы лишь перед тем, что прямо угрожает личным их интересам. Я не про чистые души говорю: те ужаснутся и себя обвинят, но они незаметны будут. Смех же будет всеобщий.