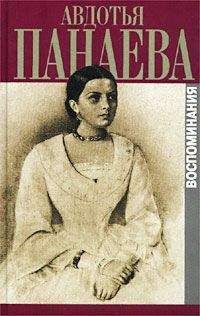Я дал заметить Ивану Андреичу о моем намерении, чтоб несколько насладиться своим благородным поступком. Его ужас за мою будущность, мольбы одуматься и т. п. удостоверили меня еще более в героизме моего замысла, и я избрал наконец день объяснения.
Феклуша была на реке за своим занятием. Я подсел к ней. Мое встревоженное лицо, нетвердый голос -- я был уверен -- обратят на меня особенное внимание девушки и дадут мне повод начать поэффектнее мое предложение; но рыба ловилась как назло очень удачно, и я должен был не только начать разговор, но даже напомнить о своем присутствии.
– - Фекла Григорьевна! -- сказал я довольно трагически и тем обратил на себя внимание девушки; она посмотрела на меня вопросительно, я продолжал в том же тоне: -- Скажите мне откровенно, будете ли вы искренно отвечать мне на все мои вопросы?
– - Я разве когда говорила неправду? -- с удивлением спросила она.
– - В сию минуту откровенность ваша необходима, вопросы мои слишком близки моему сердцу.
И я наслаждался заранее, какое должны впечатление произвести мои слова на слушательницу, не подозревавшую о предстоявшем ей счастии.
– - До вас, вероятно, доходят сплетни насчет наших прогулок? -- продолжал я.
Феклуша вся вспыхнула, судорожно сжала свои губы и сдерживала ускоренное дыхание.
– - Вас это не возмущает? -- спросил я ее, желая пользоваться всеми выгодами своего положения.
– - Чем же я могу пособить! -- с грустью спросила Феклуша и, верно не желая продолжать разговора, оскорбительного для ее самолюбия, осмотрела червя на крючке и хотела закинуть в воду -- но я не допустил ее до этого и, возвыся голос, сказал гордо:
– - Неужели вы думаете, что я спокойно могу это слышать?
Феклуша, закидывая удочку, отвечала:
– - Что же делать! Я знаю, вы не верите ничему! Пусть их говорят, что хотят! Но мне только досадно и больно, когда моя мать плачет об этом. На днях приезжала нарочно к нам попадья всякие глупости пересказать про нас, слышанные у соседей,-- и так огорчила отца и мать, что я…
Феклуша не окончила речи и отвернула личико от меня. Я был доволен. Она должна была сильнее почувствовать мой благородный поступок.
– - Я давно имел намерение заставить молчать дураков ваших соседей, но боялся,-- (я лгал даже в самую важную для меня минуту жизни: как глубоко сидит в нас привычка лгать!) -- чтоб вы не сочли мое предложение вынужденным… Я… я хочу жениться на вас!
Произнеся эту страшную для всякого мужчины фразу, я так оробел, что мне даже пришли на память снова многие подозрения моего приятеля насчет Феклуши. Меня удивило молчание Феклуши и еще более спокойствие, с каким глаза ее были устремлены на поплавок, колыхавшийся на воде.
– - Что же вы молчите? -- спросил я обиженным голосом.
– - Что же мне отвечать на шутку?
– - Как шутка! -- воскликнул я с жаром и, забыв свою заученную роль, старался показать искренность моих чувств и слов.
Феклуша наконец прервала меня и очень серьезно сказала:
– - Если все это не шутка и вы твердо решились жениться, то я вам скажу прямо: замуж я не пойду!
– - Значит, вы любите кого-нибудь другого. Неужели Иван…
Феклуша не позволила мне выговорить все имя моего приятеля и сделала знак рукой, чтоб я замолчал. В ее взгляде я заметил сильное презрение, но оно скоро исчезло, и она твердым голосом произнесла:
– - Я ни за кого не пойду замуж, никогда, никогда!
Последние слова резко раздались по реке.
Я вздрогнул и спросил о причине такого решения. Феклуша с грустью отвечала:
– - Я была еще ребенком, как моя сестра страдала и умерла. Я тогда же дала слово никогда не быть ничьей невестой.
– - Но это ребячество! -- воскликнул я.
– - Может быть, но до сих пор я не изменяла себе.
– - Неужели вам никто не нравится из мужчин? Вы не дитя,-- горячась, заметил я.
– - Я так мало вижу их, а тех мужчин, которых я знала…
Феклуша остановилась и продолжала весело:
– - Оставим этот разговор, я не люблю вспоминать старого!
– - Нет, я хочу знать одно. Вы равно всех презираете? Я едва мог верить своим ушам, что получил отказ. Феклуша необыкновенно мягко и нежно произнесла:
– - Я никого не люблю!
Я убежал от Феклуши; слезы приступили к моим глазам. Не знаю, отчего я плакал: от угрызения ли совести, что и я был участником тех жестоких оскорблений девушке, которые, может быть, навсегда лишили ее всей поэзии жизни, или от более естественной причины -- от глубоко уязвленного самолюбия? Я долго не мог опомниться. Мне казалось невозможным такое равнодушие девушки к моим жертвам. Я страдал, готовился так долго, думал найти искреннюю благодарность и безумную радость… И что же? Презрение мне было наградой за все. Мне казалось невероятным, чтобы слова Феклуши были искренни. Я думал, что ее гордость жаждала мести, насытилась и теперь, через несколько дней,
Феклуша сама даст мне заметить, что оценила и взвесила всю важность и благородство моего поступка…
Когда я вернулся домой, мой приятель встретил меня с такой печальной миной, что, я уверен, не более печально встретил бы он мой холодный труп. В его голосе и движениях замечалась грустная покорность судьбе, против которой человек сознает все свое ничтожество.
Я был так раздражен, что на его плаксивое поздравление отвечал бранью. Он ни слова не произнес, а только тяжело вздохнул. Но когда он узнал, в чем дело, то кинулся радостно обнимать меня и к нему возвратилась тотчас способность говорить чушь. Я снова обругал его на чем свет стоит и назло ему, Щеткиным и всем соседям дал себе слово возобновить свое предложение, и возобновить -- гласно! Для этого я избрал посредником одного помещика, страшного сплетника, который поражен был моим намерением и все твердил:
– - Вот счастье-то людям! Да они одуреют от радости!
И, забыв, что очень часто доставлял моему приятелю сплетни об Феклуше, он принялся выхвалять ее мне на чем свет стоит.
Меня самого поразило спокойствие, с каким выслушали старички Зябликовы мое предложение. Или они знали решение своей дочери? Но этому противоречило их удивление, когда была призвана она и они услышали отказ ее.
Итак, я вторично выслушал отказ.
– - Что делать, батюшка, не судьба нам с вами породниться! Благодарим за честь! -- сказал Зябликов, пожимая мне руку.
Старушка, казалось, так была удивлена отказом своей дочери, что не нашлась мне ничего сказать, как только, вздохнув, тяжело произнесла:
– - На все воля божья!
Феклуша удалилась тотчас, как объявила свое решение. Я побрел в сад, чтоб проститься с ним навсегда. В одной из его аллей меня догнала Федосья, бухнулась мне в ноги и от волнения и слез могла только повторять:
– - Господи! Господи!
Я велел ей встать.
– - Спасибо, спасибо! Теперь ее не посмеют обижать,-- вытирая слезы и улыбаясь в то же время, сказала Федосья и стала ловить мою руку, чтоб поцеловать.
Защищаясь от этого выражения радости, я сказал:
– - Да твоя барышня не хочет, чтоб я был ее мужем, она мне отказала.
Федосья вздрогнула и как ошеломленная вытаращила на меня свои глаза. Я продолжал нетвердым голосом:
– - Скажи своей барышне, что я более не увижу ее, но всегда буду помнить об ней. Скажи…
Я был еще тогда молод, господа, и потому очень извинительно, что не мог продолжать говорить, слезы мне помешали.
Федосья вытерла передником пот, выступивший на рябом и побледневшем лице, и глухим голосом спросила меня:
– - Так-таки и сказала: не хочу замуж?..
Я кивнул головой.
Федосья злобно усмехнулась и, с упреком смотря на меня, произнесла сквозь зубы:
– - Знать, повернули ей все сердце злые языки!
И она низко поклонилась мне, пошла по аллее, плача и бранясь в одно и то же время…
В этот же день я расстался с моим приятелем. Из гостиницы П*** я написал Зябликовым письмо, в которое вложил другое -- к Феклуше. Черновое к старикам я нарочно оставил в номере на столе. В нем я сожалел, что не мог породниться с ними, получа отказ от их дочери, и порядочно обругал всех их соседей, распускавших сплетни. Потом я узнал, что мое письмо ходило по рукам в губернии, но все-таки не спасло Феклушу от злословия; ее отказ приписали бог знает каким нелепостям.
Года через три я уже забыл не только о существовании моего приятеля, но даже редко вспоминал и о Феклуше, которую оценил еще более, когда оставил ее. Я должен сознаться, что чувствовал теперь большую благодарность за ее отказ. Какой я семьянин, когда хандрю страшно оттого, если поживу с годок на одном месте, и без ужаса не могу себе вообразить детского писка и суетливости в комнатах.
Мой приятель изредка писал ко мне. Я мог заключить по этим письмам, что он оставался все таким же нелепым человеком. Его обокрал наглым образом управляющий немец, выписанный им прямо из Германии для улучшения хлебопашества и вообще сельского хозяйства; его обманывал староста; камердинер морочил его десять лет своей мнимой честностью и преданностью.