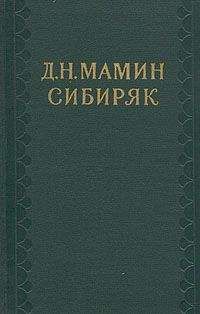Получив деньги, я выскочил из редакции в каком-то чаду. Целых тридцать рублей, первый настоящий литературный гонорар, - я даже простил Ивану Иванычу его "на затычку". Дело происходило за три дня до пасхи, когда весь Петербург охвачен радостной тревогой. Окна всех магазинов декорированы самыми соблазнительными вещами, публика спешит с разными свертками и коробками, в самом воздухе чувствуется какая-то радость, обидная для тех, кто не может принять в ней участия даже косвенным образом. Именно в таком настроении я шел в редакцию, а возвращался крезом, сжимая в кулаке право на существование. Да здравствует милый Иван Иванович!.. Много прошло времени с этого решительного момента, через мои руки прошло немало денег, но никогда они не были мне так дороги, как именно эти тридцать рублей. Говорят, что первая ласточка не делает весны, - это глубоко несправедливо...
С деньгами я отправился прямо в портерную, где и сообщил "академии" о неожиданно свалившемся счастье.
- Удивительно, как это расступился Иван Иваныч, - заметил сдержанно Фрей. - Говоря между нами, он порядочная собачья жила... А впрочем, хорошо то, что хорошо кончается.
В качестве счастливчика, которому покровительствовала сама судьба, я должен был выставить "академии" целую дюжину пива. Эта жертва была принята с благодарностью. Откуда-то явился Порфир Порфирыч, слышавший верхним чутьем, где пьют.
- Alea jacta est,* - проговорил он. - Посвящается раб божий Василий во псаломщика от литературы... Дай бог нашему теляти волка поймати. А впрочем, не в этом дело, юноша... Блюди, юноша, дух прав и сердце смиренно. Одним словом - ура!..
______________
* - Жребий брошен (лат.).
Мне сделалось даже совестно фигурировать в роли именинника, потому что другие сидели без работы; это было черной точкой на моем литературном горизонте.
Воспользовавшись нахлынувшим богатством, я засел за свои лекции и книги. Работа была запущена, и приходилось работать дни и ночи до головокружения. Пепко тоже работал. Он написал для пробы два романса и тоже получил "мзду", так что наши дела были в отличном положении.
- Продажный поэт... - с горечью карал самого себя Пепко. - Да, продажа священного вдохновения по мелочам... Э, все равно!..
В разгар этой работы истек, наконец, срок моего ожидания ответа "толстой" редакции. Отправился я туда с замирающим сердцем. До некоторой степени все было поставлено на карту. В своем роде "быть или не быть"... В редакции "толстого" журнала происходил прием, и мне пришлось иметь дело с самим редактором. Это был худенький подвижный старичок с необыкновенно живыми глазами. Про него ходила нехорошая молва, как о человеке, который держит сотрудников в ежовых рукавицах. Но меня он принял очень любезно.
- Читал, читал ваш роман... да, - заговорил он, суетливо роняя слова. - Трудно сказать что-нибудь сейчас... да, трудно. Это только первая половина, а когда кончите, тогда и рассмотрим окончательно.
- Мне хотелось бы знать ваше мнение...
- Мое мнение? У вас слишком много описаний... Да, слишком много. Это наша русская манера... Пишите сценами, как делают французы. Мы должны у них учиться... Да, учиться... И чтобы не было этих предварительных вступлений от Адама, эпизодических вставок, и вообще главное достоинство каждого произведения - его краткость. Мы работаем для нашего читателя и не имеем права отнимать у него время напрасно.
Меня этот полуответ мало удовлетворил, и я снес рукопись в другой "толстый" журнал, пользовавшийся репутацией необыкновенной солидности. Через две недели его редактор говорил мне:
- Главный недостаток вашего романа в том, что слишком много сцен и мало описаний...
XIII
- "Выставляется первая рама, и в комнату шум ворвался, - декламировал Пепко, выглядывая в форточку, - и благовест ближнего храма, и говор народа, и стук колеса"... Есть! "Вон даль голубая видна", то есть, в переводе на прозу, забор. А вообще - тьфу!.. А я все-таки испытываю некоторое томление натуры... Этакое особенное подлое чувство, которое создано только для людей богатых, имеющих возможность переехать куда-нибудь в Павловск, черт возьми!..
По обыкновению, Пепко бравировал, хотя в действительности переживал тревожное состояние, нагоняемое наступившей весной. Да, весна наступала, напоминая нам о далекой родине с особенной яркостью и поднимая такую хорошую молодую тоску. "Федосьины покровы" казались теперь просто отвратительными, и мы искренне ненавидели нашу комнату, которая казалась казематом. Все казалось немилым, а тут еще близились экзамены, заставлявшие просиживать дни и ночи за лекциями.
- Знаешь что? Мы сегодня будем дышать свежим воздухом, - заявил Пепко раз вечером с таким видом, точно хотел выстрелить. - Да, будем дышать, и все тут. Судьба нас загнала в подлую конуру, а мы назло ей вот как надышимся! Всю гигиену выправим в лучшем виде.
- Куда же мы пойдем? В Александровский парк?..
- Тоже хватил: в парк! Нет, я на этом не помирюсь. Закатим прямо на острова... Вообще будем вести себя, как прилично порядочным молодым людям. Теперь самое модное место - pointe* на Елагином; ну, туда и отправимся посмотреть, как будет садиться наше солнце, ибо сегодня оно будет принадлежать нам по праву захвата и труда. Мы заработаем собственными ногами наш закат... Кстати, у тебя не найдется ли несколько крейцеров на конку? Нет? Ну, наплевать... Я где-то читал в газетине, что теперь мода совершать прогулки пешком; значит, будем жить по последней моде. У меня есть священный пятачок, который я сберегу на бутылку квасу... Все порядочные люди пьют изысканные напитки, а мы прикинемся славянофилами и будем отдуваться квасом принципиально. У меня в каждом деле принцип на первом месте...
______________
* стрелка (франц.).
Мы отправились по Каменноостровскому проспекту, который по вечерам в конце апреля имеет какой-то особенно задорный и бойкий вид. Мчится целая вереница щегольских экипажей, летят кавалькады, гремят конки, выбиваются из сил извозчичьи лошади, - все движется, живет и торопится жить. В самом воздухе есть что-то бодрое, оживляющее, подающее какую-то смутную надежду. Мы были совершенно счастливы, что могли двигаться вместе с другими, хотя и с меньшей инерцией. Важна цель, а средства для ее достижения в данном случае имели совершенно условное значение. Пепко принял беззаботный вид гуляющего человека и шел, помахивая дешевенькой тросточкой, приобретенной в табачном магазине в минуту безумной роскоши.
- Я дышу, следовательно - я существую, - говорил он, когда мы шагали по Крестовскому острову. - Ах, как хорошо, Вася!.. Мы будем каждый день делать такую прогулку. Положим себе за правило...
- Это не предусмотрено проспектом нашей жизни, Пепко.
- К черту всякие проспекты! Зачем добровольно стеснять собственную свободу, когда и без того до усов всякой неволи? Я хочу быть вольным, как птица...
В доказательство этой последней мысли Пепко галантно раскланялся с двумя шикарными дамами, катившими полулежа в шикарном "ланде". Они даже не повернули головы в нашу сторону, приняв нас, вероятно, за оборванцев, и быстро исчезли в облачке пыли, гнавшемся за ними. Пепко глухо расхохотался.
- Впрочем, они имеют полное право меня презирать и не отвечать на мой поклон, - резонировал он, - гусь свинье не товарищ... да. Посмотрим, что они скажут, когда я сам поеду в собственном ландо.
- А когда это будет?
- Знаешь поговорку: кто не женится до тридцати лет и кто не наживет миллиона до сорока лет, тот никогда не женится и никогда ничего не будет иметь.
- Я все-таки не понимаю, для чего тебе именно ландо?
- Как для чего? А вот показать им всем, что и я могу ездить, как они все, и что это ничего не стоит. Да... Вот я теперь иду пешком, а тогда развалюсь так же, закурю этакую регалию... "Эх, птица тройка! Неситесь, кони"... Впрочем, это из другой оперы, да и я сейчас еще не решил, на чем остановиться: ландо, открытая коляска или этакого английского черта купить.
Увы! Пепко так и не разрешил этого мудреного вопроса. Его кровные рысаки носились в области юношеской болтливости, а верх благополучия совпал с ездой на самой обыкновенной извозчичьей кляче.
Мы долго любовались красавицей Невой. Как она здесь хороша, эта чудная река, такая спокойная, могучая и всегда красивая! Водная гладь только кой-где рябилась, стрелой неслись финляндские пароходики, чертили воду десятки лодок, - одним словом, жизнь кипела. Деревья стояли еще голые, и только пушились одни ивняки, да кой-где высыпала яркозеленая весенняя травка. В воздухе чувствовался смолистый горьковатый аромат назревших почек, особенно когда неизвестно откуда точно дохнет прямо в лицо теплый весенний ветерок.
На point'e набралось уже столько публики, что мы не нашли свободного места на скамейках. Дорога была загромождена экипажами, и прибывали все новые. Мы очутились в лучшем обществе, которое видели зимой в итальянской опере. Да, этот богатый, жуирующий, пресыщенный Петербург был здесь налицо, рядом с нами и вместе с тем как он был неизмеримо далек от нас! "Наше солнце" уже близилось к горизонту багровым раскаленным шаром, точно невидимая рука хотела опустить его в Финский залив, чтобы охладить немного. Раскинувшаяся морская гладь манила и звала, навевая приятную тоску - это был, так сказать, аппетит воли, простора и движения. В крайнем случае получался контраст с нашим забором, ревниво заслонявшим от наших глаз все перспективы и даже нижнюю часть неба. А как красиво летели по заливу маленькие яхточки, окрыленные косыми парусами - настоящие птицы... С моря потягивало свежим воздухом, где-то в камышах морская волна тихо сосала иловатый берег, на самом горизонте тянулись дымки невидимых морских пароходов, а еще дальше чуть брезжился Кронштадт своими шпицами и колокольнями...