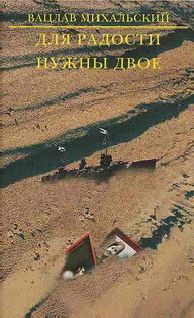Вскоре о ней уже было известно, что по происхождению Мария – русская аристократка, а приехала в Тунизию из метрополии, из Парижа.
Постепенно выяснилось, что Мария изучила в тонкостях не только французский язык и этикет, но и многое другое, совсем не вяжущееся с ее пленительным обликом. Например, она знала прикладную математику, химию, оптику, без запинки читала карту звездного неба, разбиралась в биржевых котировках как заправский брокер с Уолл-стрита, стреляла из пистолета, как бравый офицер, понимала толк в лошадях и была неутомимой наездницей, плавала так, что за ней всегда приходилось посылать яхту к самому горизонту. Были у Марии и еще многие дарования, в том числе и два самых важных, определяющих ее жизнь. Одно – тайное или почти тайное, впрочем, говорить о нем пока еще рано… Второе дарование явное, так сказать, светское, – талант художника. Этот второй талант был хотя и небольшой, но очень цельный. Как говорила по поводу своего дарования сама Мария: "Мой стакан невелик, но я пью из своего стакана".
Когда, бывало, ее спрашивали, почему она с таким букетом талантов и способностей влачит свои дни здесь, в глуши Тунизии, а не блистает где-нибудь в Париже, Лондоне или Нью-Йорке, Мария отвечала всегда одно и то же:
– Там нет и никогда не было Карфагена.
И спрашивающие понимали, что она имеет в виду свою разрушенную Родину. Мария всегда рисовала акварелью или писала маслом лишь сюжеты, связанные с историей Карфагена или с жизнью в его современных развалинах. Всегда только Карфаген – и больше ничего, никогда.
Ее законченные работы были лишь двух размеров: 40560 или 60590 сантиметров, всегда с подписью «Мари» (русскими буквами) в нижнем правом углу и с названием картины по-французски, в нижнем левом углу, написанным очень мелкими, но очень отчетливыми буковками. Во всех ее работах присутствовало одно важное качество: они были узнаваемы с первого взгляда, в них сознательно подчеркивалось единство стиля, может быть, и не природного, а нарочно придуманного, но это не имело значения. Так или иначе, а стиль был. Притом, что не менее важно, она давала своим картинам хотя и однотипные, но броские, яркие названия: "Клятва Ганнибала", "Огонь Финикии", "Песня весталки", "Блаженный Августин", "Весна в Карфагене".
Считалось, что ее картины приносят удачу, и на благотворительных базарах местная знать раскупала их на ура.
Вдобавок ко всему вышесказанному Мария хорошо играла на рояле, и у нее был довольно сильный и хорошо поставленный голос – полнозвучное чистое сопрано, очень нежное на верхах.
– Уныние, господа, – тяжкий грех. Никогда не поддавайтесь унынию! – любила повторять Мария и скоро прослыла среди своих новых знакомых веселой хохотушкой, готовой смеяться по любому подходящему поводу. Она смеялась так непринужденно, так заразительно, что даже самые унылые скептики, самые удрученные несовершенством мира мизантропы, и те светлели в ее присутствии. Она так умела оценить и так ловко подхватывала любую мало-мальски удачную шутку, что уже одно это могло бы снискать ей любовь и признательность всех тех мужчин и женщин, которых она поощрила своей поддержкой и своим вниманием.
Склонная к мистификациям и розыгрышам, она любила певать тунизийцам и даже разучивать с ними под собственный аккомпанемент украинские народные песни. Особенно часто:
Ничь така мисячна,
Зоряна ясная,
Видно, хоть голки збирай.
Выйди, коханая,
Працою зморена,
Хочь на хвылыночку в гай!
Она уверяла владетельных тунизийских царьков и их приближенных, что эту песню сочинила ее прабабушка, и более того – это их родовой фамильный гимн.
Тунизийцы пели с прилежанием. Бывало, из раскрытых окон виллы так и неслось над руинами Карфагена, так и летело к морю, подхваченное береговым ветерком:
Ничь така мисячна,
Зоряна ясная…
Слова песни вполне гармонировали с действительностью: ночи в этих благословенных местах Северной Африки обычно стояли ясные, лунные и очень тихие.
Мария была одинаково доброжелательна со всеми – без разбору чинов и сословий. Она с лету запоминала и уже никогда не забывала имена своих новых знакомых и все, что было с каждым из них связано, что представляло интерес для этих людей – будь то мальчик на побегушках или негоциант, у которого этот мальчик был в услужении. Опять же независимо от чинов и сословий люди высоко ценили такое внимание к своим персонам и отплачивали Марии той же монетой.
При этом надо заметить, что интерес Марии к любому человеку был неподдельный, во всяком случае, уличить ее в неискренности или в какой-то корысти никто бы не смог. Она помнила о каждом, с кем хоть мимолетно пересеклась ее повседневная жизнь, такие подробности, такие детали, которые те зачастую и сами не держали в памяти.
Но особенно поразило внимание старшего поколения тунизийской аристократии (отгулявшей свое в молодости и на старости лет повернувшейся лицом к Аллаху) то, что Мария не просто говорила и писала по-арабски, а имела довольно подробное представление о Коране и ей ничего не стоило вставить в разговор со старейшими стих из той или иной суры[17], притом всегда к месту, всегда со смыслом.
Ходили слухи, что Мария владеет большим состоянием, но последнее опять же не вязалось с тем, что в доме Хаджибека она служила всего лишь гувернанткой, воспитывала двух его маленьких сыновей. Правда, точно так же с должностью гувернантки не вязались и те роскошные апартаменты, которые были отведены ей в доме и, главное, тот ненарочитый почет, который оказывали ей все без исключения члены семьи банкира, слуги и служащие банка.
До приезда Марии Александровны банкирский дом Хаджибека был заурядным французским колониальным банком. А с ее появлением, всего за два финансовых года, он бурно выдвинулся в первую тысячу банков мира. С ним стали считаться не только в Тунизии и в Париже, но и в Лондоне, Нью-Йорке, во Франкфурте-на-Майне, Токио, Риме, Цюрихе.
Злые языки болтали всякое, но близкие банкира Хаджибека, и в особенности две его жены, точно знали, что интимной связи между их хозяином и Марией нет и никогда не было. Жены Хаджибека и его сыновья знали о Марии, что она – один из крупнейших вкладчиков банка и фактически управляет им, что она никогда не предаст и, главное, – как говорил о ней сам Хаджибек: "Мари – наш компас в бурном море!"
Но все это будет потом, в далеком грядущем. А пока, в тот знаменательный день приезда, умывшись и переодевшись с дороги в шелковое легчайшее платье белого цвета, Мария познакомилась с членами семьи Хаджибека, а затем то ли спросила у него разрешения, то ли поставила его в известность:
– Я пойду, прогуляюсь в развалинах.
И, не дожидаясь ответа, направилась к руинам Карфагена, к видневшимся невдалеке полуобвалившимся аркам римских терм.
Эта ее манера как бы испрашивать разрешения, но в то же время лишь ставить в известность была весьма характерна для Марии, делала ее отношения с окружающими неуловимо зыбкими, слегка напряженными и вместе с тем свободными от взаимных обязательств. Она поступала так всегда – с застенчивой, почти просительной улыбкой, но, увы, абсолютно непреклонно. Перечить ей было трудно, ее светло-карие, необыкновенно лучистые глаза сияли так доверчиво, так открыто, в них без труда прочитывалась полная уважительность к собеседнику и такое же полное нежелание с ним считаться.
Вот и сейчас, глядя ей вслед, Хаджибек не обиделся, а только подумал о том, как подходит к ее светло-русым волосам белое платье, как хороша и свежа она. Глядя ей вслед, старый лис, сам не понимая почему, еще раз вдруг уверился, что наконец-то нашел подлинное сокровище и теперь его дело станет процветать как никогда.
– Накрывайте на стол, она скоро вернется! – велел он женам.
Еще не знавшие ничего о Марии, те заподозрили в ней опасную соперницу, скорбно поджали губы, повиновались с постными лицами и принялись сервировать огромный овальный стол на открытой веранде. Согласно здешним обычаям, не слуги, а жены или дочери хозяина накрывали на стол только в тех редчайших случаях, когда надо было оказать гостю особый почет.
Мария не ожидала встретить в термах людей, но уже за первой циклопической аркой наткнулась на двух арапчат лет десяти с совочками и метелочками, расчищающими какую-то деталь постройки. Рядом с мальчишками оказался мужчина лет сорока, безусловно, француз, – невысокого роста, в широкой рабочей блузе, в испачканных красной пылью штанах, в грубых сандалиях на босу ногу, но в новеньком пробковом шлеме – очень дорогом, Мария знала такие по тропикам.
Один из арабских мальчишек, как выяснилось позже, Али, рослый, крепенький, с уверенным блеском в черных смышленых глазах, а второй, Махмуд, – худосочный, маленький, какой-то заморенный, и глаза у него были как будто не детские, а по-стариковски печальные, мудрые.