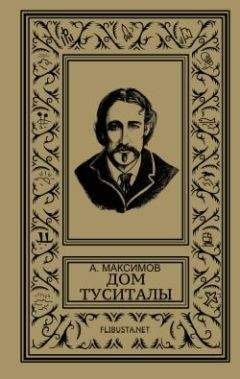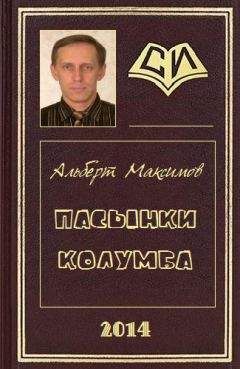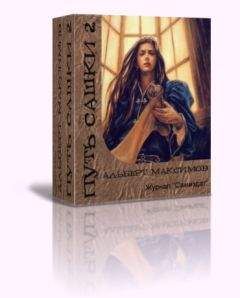никто и никогда не давал ей столько добра, сколько она получила в Забавино. И – хватит. Жизнь – мрак, это она всегда знала. Появился лучик света – поблагодари. И хватит. Честь надо знать, как говорится. Скажи «спасибо» за этот лучик, а дальше и живи привычно во мраке.
Вдруг Ариадна почувствовала, как отец Тимофей взял ее за руку.
– Что, батюшка? – спросила тихо. – Что дать тебе? Может, кисельку? Я сварила.
– Господь добр. Вот Спасителя как уж мучали, а он на обидчиков своих не обижался. Помнишь ли слова? «По вере вашей да будет вам»? И верой этой открылись глаза слепых. Так и в жизни. Кто верит – тот и видит. – Отец Тимофей помолчал: ему трудно было говорить долго. – А кисельку принеси, принеси..
Архиерей прислал отца Симеона проведать настоятеля забавинского Храма. Впрочем, если совсем уж по чести говорить – не только проведать, но и проверить: так ли уж плох отец Тимофей, как сам утверждает?
Архиерей отца Тимофея уважал, но знал, что тот способен на разные разности, иногда даже вслух называл его «юродивым», и что отец Тимофей задумает и для чего – понимал не всегда.
Отец Симеон вызвался поехать сам, ему непременно нужно было увидеть Тимофея и покаяться. Много лет собирался, а тут стало ясно: время сузилось до дней, если не до часов, и откладывать дальше нельзя, потому как никакого «дальше» уже и нет.
Симеон вошел в дом. Тимофей признал его сразу: это был тот самый человек, по чьему доносу его отправили в тюрьму.
Отослал Ариадну и спросил сам, не поздоровавшись:
– Каяться приехал?
Симеон бросился к кровати, рухнул на колени, положил руки на грудь Тимофею, начал безостановочно говорить. Это было не церковное покаяние, но хорошо продуманная и специально выстроенная речь человека, который очень боялся не успеть попросить прощения у того, кто уходит из земной жизни.
Симеон говорил о бесах, что его попутали; о муках, которые испытывал с того самого дня, как арестовали Тимофея; о покаянии и исповеди; вспоминал слова Спасителя: «Всякий грех и хула простятся человеку»; о том, что выхода не было, что кагэбэшники угрожали ему и его семье; что, по сути, его заставили, что сам бы он – никогда и ни за что…
Говорил долго, быстро, один раз даже всплакнул.
Тимофей лежал с закрытыми глазами, молчал. И было неясно даже: слышит он своего собрата или нет.
Симеон даже ухо приложил к груди – проверить, бьется ли сердце старца. Сердце билось.
Вдруг, не открывая глаз, отец Тимофей произнес тихо, но веско:
– Много на себя берешь.
Симеон даже отпрянул от неожиданности.
– Много на себя берешь, – повторил отец Тимофей и открыл глаза. – Через тебя Господь волю свою исполнил. За что ж каешься ты и прощения просишь?
– Да я… – растерялся Симеон. – Я… Как же? На тебя… Писал… Это же я…
Отец Тимофей с трудом поднялся на кровати, притянул к себе Симеона, трижды облобызал, перекрестил.
– Ступай себе с Богом. – Тимофей опять рухнул на кровать. – Тебя Ариадна покормит, и ступай отсюда. На машине, чай, приехал?
– Ага. Архиерей дал.
– Вот и ступай. Архиерею передай – отхожу. Пусть нового настоятеля пришлет. Молодого. Он как раз сейчас думает-решает: тебя ли сюда ставить или молодого. Скажи: пусть молодого. А тебе не надо приход брать – не доросла душа твоя до этого. Ты сюда приедешь, но позже. В свой черед. – Тимофей закрыл глаза.
Было видно, что от такого количества произнесенных слов он сильно устал.
Симеон ехал домой по грязной российской дороге, смотрел на неопрятные домики и на лес, который тоже почему-то казался грязным, подскакивая на ухабах, старался прислушаться к себе и понимал с некоторым даже удивлением, что не находит он успокоения. Много раз отрепетированная речь спокойствия не принесла. Более того: давняя вина стала словно выпуклей и безысходней. Безвыходней стала – вот какая беда.
Симеону казалось, что если Тимофей по-христиански простит его, то и он, отец Симеон, тоже себя простит и камень с души упадет, рухнет в бездну вины и там останется. Много раз представлял он себе, как будет просить прощения у Тимофея, и как тот простит, и как потом, после, когда уже будут сказаны все слова, начнется у Симеона другая, безвинная жизнь.
А она не начиналась. И самому себе боялся Симеон признаться в том, что мучало его изнуряюще сильно: ведь ежели Тимофей по-Божески живет, то он вроде как, получается, нет. А если не по законам Бога, то тогда – по чьим?
Симеон, сидя на заднем сиденье, посмотрел в окно на дорогу… А русский пейзаж, он какие угодно чувства вызвать может – и гордости, и величественности, и просто красоты невероятной, Божественной – только вот оптимизма не вызывает. Не вызывает русский пейзаж оптимизма – и все тут!
Он отвернулся… В машине куда ж отвернешься? Только в другое окно. А там – тот же пейзаж. И впереди. И сзади.
И такая взяла отца Симеона тоска… Прямо схватила руками за самое горло, сжала – казалось, не продохнуть.
Он откинулся на сиденье и запел молитву.
Водитель обернулся, улыбнулся. Думал, наверное, если человек молитву поет – хорошо ему.
Отец Симеон пел как выл… И казалось ему, что слова молитвы не взлетают в небеса, а падают на землю, словно листья, и так и погибнут они, ненужные и не замеченные ни людьми, ни Господом.
Но продолжал свою песню-молитву отец Симеон. Хоть и боялся, что не услышит его Тот, Кому молитва послана, однако замолчать, остановиться было еще страшней.
Между тем, как только уехал Симеон, отец Тимофей встал с кровати и пошел на кухню заваривать чай.
Ариадна не обрадовалась, а скорей испугалась чудесному исцелению настоятеля, потому что слышала: бывает, что перед самой кончиной человек вроде как прекрасно себя чувствует, а потом – раз! – и уходит.
Она смотрела, как отец Тимофей возится с чайником, лезет в холодильник, с аппетитом ест сметану, и понимала, что перед ней – абсолютно здоровый человек.
– Что подглядываешь? – Отец Тимофей с аппетитом облизывал ложку. – Человек умирает, когда все задачи свои исполнил. Господь посылает человека на землю с заданием. Видит, что выполнено или что уже никогда выполнено быть не сможет – забирает. А мне, получается, еще не срок.
Поверить в чудесное исцеление было совершенно невозможно, и Ариадна спросила робко:
– Может, вам анализы сдать снова? У вас были очень плохие анализы.
Отец Тимофей вздохнул:
– Неужто ты и вправду не понимаешь: кто лучше самого