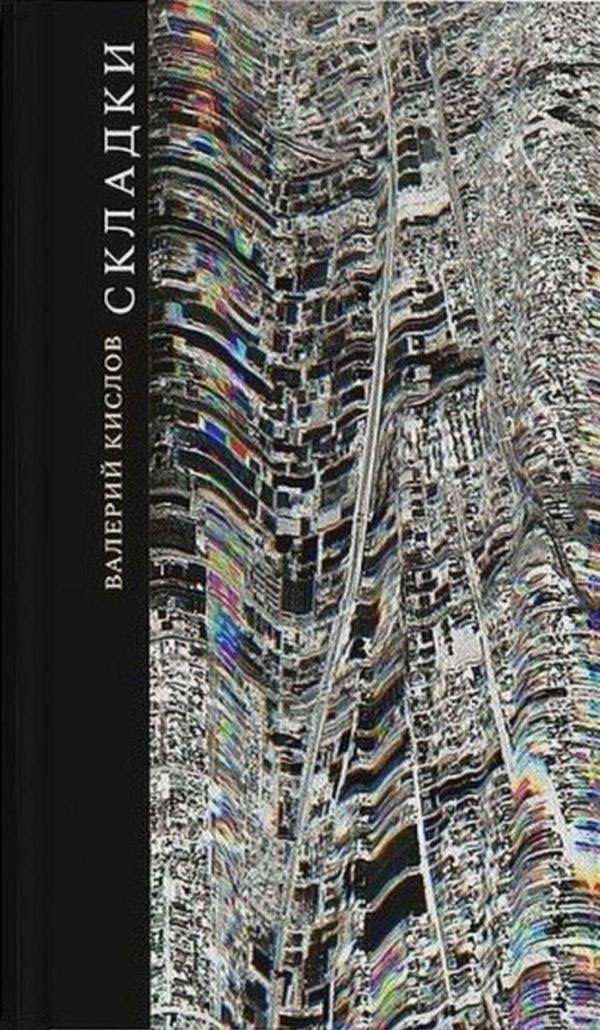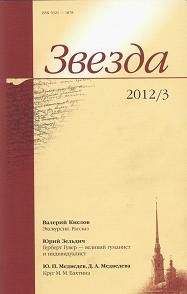Никто не поможет.
И тогда, в какой-то момент, ты, взрослевший медленно, а постаревший быстро, вдруг поймешь, что осиротел (папа уже на том свете, мама еще на краю этого, а ты — на чужой стороне). Ты поймешь, что жизнь, которая полна трескучих слов и ничего не значит, как-то прошла мимо. Поймешь, что остался один — один в поле, воя, скуля без конвоя — серый и сирый, один на один против чего-то неопределенного, необъяснимого, неописуемого.
Все будет бледно и серо, туманно, мокро и гадко.
И уже не будет никаких блинов и приколов. Никаких наречий. Никаких глаголов. Никакой речи.
Сущая жуть. Жуткая суть. Распад, сумрачный ад и, как в прорицании Леви-Стросса, печальные трупики…
СКЛАДКИ
В какой-то момент ты понимаешь, что понял. Ты понял, что понять можно. Можно понимать отдельные факты и, сравнивая, определять их взаимосвязи; можно оценивать целые явления и, сопоставляя, выявлять их общий характер и даже намечать общую тенденцию. При этом ты не забываешь о том, что подход должен быть не аффективным и, следовательно, тенденциозным, а, невзирая на его извечно субъективный характер, максимально рациональным.
Что говорит тебе рацио? И что понял ты, друг Горацио? Ты понял, что империя гниет на корню.
Ты понял и то, что империя не признает ни сам факт гниения, ни вытекающее из него умирание. Невзирая на все подвижки и потуги реанимировать смертельно прогнившую державу, она умирает. Это не значит, что она, разбрызгивая гной, тут же умрет у тебя на глазах, на руках, на коленях или в объятиях. Это не значит, что она умрет за время твоей жизни или в момент твоей смерти. Наивно соотносить необозримое время империи с обозримым временем индивида, даже если этот индивид — ты сам. Измерь себя сам, говорили древние, и подумай о своих более чем скромных размерах. Оцени свою гниль, добавляли они, сравни ее с гнилью окружающего мира и задумайся. Твоя жизнь неизмеримо меньше ее выживания, ты — быстрая чайка, снующая над медленно уходящим под воду материком (эта романтическая метафора тебе наверняка покажется пафосной и даже патетической, но мы не боимся ни пафоса, ни патетики). Твоя гниль неизмеримо прогрессивнее ее загнивания: империя-материк терпеливо тухнет и смердит, не обращая внимания на торопливо гниющую и смердящую чайку. Твоя смерть неизмеримо короче ее умирания: империя, понемногу умирающая каждый год, день, час, каждую минуту и секунду, вряд ли замечает и уж точно не придает никакого значения тому, что тысячи ее подданных умирают раз и навсегда. Подданные — они и есть под кого-то данные; на них кладут и ставят, садятся и ездят, носят и возят; на их данность смотрят свысока и поплевывают, а они торопливо снуют, тухнут и смердят. Империя не обращает внимания ни на то, как они умирают, ни на то, как они выживают, ни на то, как они рождаются. Ты, как один из них, — не понятно, зачем рождающийся, живущий и умирающий под имперским бременем, — для нее не так уж и важен, почти ничтожен, но все же нужен. Если оставить в стороне и пафос чайки, и патетику материка, для чего ты, родившийся, пока еще живой, но вскоре мертвый, нужен империи? Понятно, что патетическое сравнение не позволяет раскрыть причинную связь между империей и тобой. Даже если вывести его из романтической теории катастрофы: дескать, белая чайка взмахнула крылом над черным мифическим материком — эх! ах! ох! и ух! а материк — бах, и под воду — бух…
Ты понял, что и другие романтические метафоры гниловаты как по форме, так и по содержанию (в процессе загнивания разделять форму и содержание нельзя, как нельзя, впрочем, их разделять и в процессе рождения, проживания и умирания: так, по крайней мере, сформулирован один из тезисов некогда существовавшего общества по изучению поэтизированного язычества). Сказать, что ты являешься частью империи — кирпич в стене или винт в механизме, — значит извратить и твою, и ее суть. Разумеется, кирпичи в стенах и винты в механизмах также несут на себе (в себе?) императивное бремя участия, но они не рождаются, не живут и не умирают. Они не снуют и не смердят. Они участвуют не жизнью (как может жить кирпич или винт?), не движением, а неподвижностью. Их функция — быть зафиксированным намертво. Замурованные кирпичи и заржавевшие винты, несмотря на организованность, суть элементы недвижимые по определению. Мертвая недвижимость. Ты же нужен живому организму империи как движимый и живой организм. Империи нужны любые проявления твоей жизни; ее питает выделяющаяся из тебя живица: пот, слезы, слюна, мокрота, моча, сперма, кровь. Запомни, твердые выделения империи не нужны.
Империи — кроме влажных выделений — жизненно необходимо еще и тепло, тепло твоего тщедушного и болезного тела; ее греет производимая тобой энергия. Только представь, ты и миллионы подобных тебе, все вы — микроскопические клетки, бактерии, вирусы, живущие внутри громадного зверя, например кита (эта натуралистическая метафора тебе наверняка покажется банальной и вульгарной, а может, умаляющей и даже оскверняющей твое человеческое достоинство, но мы не боимся ни умаления, ни осквернения). Ты, врожденный Иона — живая часть живого целого; в тебе — пусть малая или даже мизерная (кто измерит твои йоты?) — часть общей скверны и умаления. Пусть ты, родившийся и прижившийся во чреве кита, питаемый и питающий его соками, воспринимаешь окружающее тебя чрево как нечто сокровенно родное и жизненно необходимое, даже если оно гниет, тухнет и смердит медленнее, чем ты сам. Но и ты сам, равно как и миллионы подобных тебе, жизненно необходим родине-твари, ибо твое регулярное движение замедляет процесс ее смертельного гниения: питает и согревает внутренности, заставляет кровь быстрее бежать по венам и артериям, а сердце — стучать. Ты и подобные тебе, все вы омолаживаете ее организм, вы активизируете деятельность ее органов (разумеется, не имея возможности навсегда задержать процесс их гниения). Все вы — микроскопические подданные гигантской империи, органически связанные в единую энергетическую систему. Ваша энергия пытается тщетно оживить умирающую гниль.
Ты помнишь уравнение: какая-то власть плюс электрификация? А в сумме что?
Разумеется, ты можешь противиться и двигаться в незапланированную сторону, направляться даже в разные стороны, причем крайне неравномерно, чуть