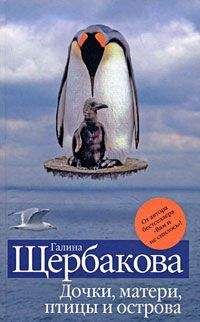Иногда по служебным делам Пашет ездил в столицу, но всегда возвращался оттуда злой и мрачный, словно все московское выводило его из себя. "Недоволен дочерью", - догадывалась Женя.
Действительно, Машина жизнь не радовала Челышева. Никакого высокого партаппаратчика рядом с ней не было. Маша то разводилась, то снова выскакивала замуж, и ее комната, вечно полная каких-то шумных, пьяных, беспутных мужчин, напоминала не то вокзал, не то гостиницу. Пашет, сокращая командировки, убегал от этого ужаса в Сибирь, к своей тихой, милой, ласковой Жене, и не было для него на земле уютней угла, чем окраинная хибара, а впоследствии двухкомнатная квартира в центре города.
Но вот скончался генералиссимус, и Женя Кныш, будто очнувшись от долгой сибирской спячки, осунулась, помолодела и взбунтовалась.
- В Москву! В Москву! - повторяла она днем и ночью. - Если не нынче, то вообще не уедем...
Она начала писать в грозные московские инстанции, разыскивать друзей отца, своих бывших подруг, и Челышев с опаской наблюдал, как Женя из запуганной, смирной ссыльно-поселенки превращается в волевую, отважную и, главное, самодостаточную женщину. Но останется ли она такой в Москве? Ведь там Павел Родионович ничем ей помочь не сможет. Не окажется ли она в Москве без опоры, одна, как на юру? Не обратится ли в замученную московскими давками и расстояниями, заполошную, вечно разрывающуюся между службой, очередями и домом столичную страстотерпицу? А если в Москве они с Женей озлобятся друг на друга и наступит беспросветная семейная каторга?..
Челышев пытался убедить жену в непрочности нового реабилитационного курса. Ведь этот курс всенародно не объявлен. Больше того: недавно "Правда" назвала закрытую речь Хрущева вымыслом западной пропаганды, хотя ее читали даже беспартийным. Собственно, этого и следовало ожидать. Партия не станет каяться, а ее уличенные в преступлениях сановники не побредут, будто пленные немцы, по московским улицам во славу справедливости и в назидание потомству. Никакая власть ничего подобного себе не позволит.
Но Женя была неумолима, и Челышеву пришлось вскарабкаться на верхнюю полку купейного вагона. Путешествие обещало быть приятным. Ехали налегке, словно молодожены. Женя радовалась, как гимназистка, впервые вырвавшаяся из захолустья, и огорчало ее лишь одно: на Казанском вокзале она встретит падчерицу.
Но вдруг в вагон вкатилась толстая суматошная баба с сумкой через плечо и по-милицейски зычно закричала:
- Чейлышев кто тута? Чейлышев сюда!
Павел Родионович испуганно развернул телеграмму: "Встретить великому сожалению не смогу позвони вечером целую Маша".
"Ну уж нет. Пусть сама нас ищет", - подумала Женя, хотя жалела мужа. Он и прежде, насупившись, глядел в окно, словно его везли в другую сторону да еще под конвоем. Теперь же, после телеграммы, он выглядел, как смертник.
"А я соблазняла Пашета Москвой, мол, он там чаще сможет видеться с дочкой. А оказывается, отец ей вовсе не нужен", - подумала Женя.
Лишь вечером, когда вагонное радио объявило о самоубийстве бывшего Машиного любовника, Пашет слегка ожил. Зато Женю охватила тревога: "Очевидно, в столице случилось что-то непредвиденное. Неужели прав мой мудрый муж? Вот она, первая смерть. Но эти люди редко кончают с собой. Почему он решился? Со страха? Нет, непохоже..."
Она вспомнила, как давным-давно Надюха и Гриша повели ее в городской театр на доклад видного московского пропагандиста. Хотя многие были в телогрейках, Женя чувствовала себя в театре еще неуютней, чем накануне в шахтерском клубе. Ей казалось: все знают, кто она, и сейчас ее выведут из зала. Даже хорошо, если только на этом все кончится. Она ни за что не пошла бы ни сюда, ни вчера на танцы, если бы не Гриша Токарев. Что скрывать, за Токаревым она последовала бы куда угодно... Впрочем, сейчас надо думать не о Токареве, а о московском партаппаратчике. Почему он застрелился?
Тогда, в театре, он Жене, пожалуй, даже понравился, хотя голос у него оказался не по-мужски высоким. Но зато москвич нисколько не важничал и даже отдаленно не смахивал ни на тюремное, ни на городское начальство. Он не глядел ни в какие бумажки и о Сталине, Рузвельте, Черчилле и советских маршалах говорил запросто, словно о приятелях или соседях, лишь не к месту часто вставляя просторечное "так сказать". Женя еще подумала, как бы повел себя этот седой человек, если бы его поставили во главе лагеря или райисполкома.
"Лучше других, - решила сейчас в поезде. - В нем все-таки была какая-то порядочность. За ним безусловно следили. Чтобы его припугнуть, арестовали его партизанского друга, сожителя Варвары Алексеевны, а он струсил. Он даже помог Токареву, хотя знал, что Токарев - сын расстрелянного. Почему же такой человек сам ушел из жизни? Испугался процесса, наподобие Нюрнбергского? Но ведь ясно, что ничего даже отдаленно похожего не предвидится. Тут я с Пашетом абсолютно согласна. Однако самоубийство - поступок, и от него не отмахнешься. Вдруг это - нечто вроде катарсиса? Очищение человека, не верующего в Бога и в бессмертие. Как бы там ни было, все это печально. Он был не худшим в их шайке, и я вовсе не испытаю радости, если они, как геринги, начнут глотать ампулы или разряжать в себя именные наганы. Муки совести прекрасны, но пусть бы этот человек жил себе дальше, а Маша, вместо его похорон, ждала бы нас на Казанском вокзале, и мы с ней, как две смирившиеся фурии, лобызали друг дружку..."
Дотащив чемоданы до стоянки такси и выстояв долгую очередь, Женя с Челышевым, еле живые, измученные ранней жарой, достигли наконец временного пристанища. Но не успели они даже толком отдышаться, как в комнатку ввалились Маша и Токарев, молодые, счастливые, навеселе, словно вернулись не с кладбища, а из загса.
Женя была обескуражена. Почему Токарев не писал, что встречается с дочкой Пашета? Во всех письмах он неутомимо жаловался, что его не берут на работу, не печатают и дела его крайне плачевны. Но, оказывается, он вполне счастлив.
Маша, расцеловав отца, великодушно потянулась к мачехе, но та лишь пожала ей руку.
...А Машу стоило пожалеть. Нынешний день дался ей нелегко. Не могла она не пойти на похороны. Тогда, одиннадцать лет назад, когда арестовали мамашу и ее сожителя, Маша позвонила в Москву, уверенная, что седой красавец бросит трубку. Но он мрачно сказал: "Приезжай" и выслал ей "до востребования" пропуск в столицу.
Маша торопливо оформляла документы, боясь, что ее вызовут свидетельницей и возьмут подписку о невыезде. Бокс подстерегал ее на всех углах, торчал в подъезде и в конце концов вломился в квартиру.
- Все! Теперь не отвертишься. Моя будешь... - противно дышал он, тесня Машу в кухню. Комнаты были опечатаны.
- С сивым хмырем баралась?
- Да погоди, глупый, - шептала Маша, словно их подслушивали. Надо было охладить Валябу. Давясь плачем, Маша клялась, что перед ним, Валькой, она чиста и что сивый ничего ей такого не сделал. Это материнский хахаль к ней лез, а москвич, наоборот, прятал ее у себя, потому что хахаль совсем чокнутый. А когда москвич уехал, материн хахаль ее изнасиловал.
- С тобой не справлюсь, а он, знаешь, какой здоровенный бугай! всхлипывала Маша, почти веря, что так все и случилось.
Валяба рыдал, как припадочный. То озверело колотил, то целовал Машу и божился, что начальник УРСа от него не уйдет. В тюряге сидят кореша... А Маше не терпелось выставить Бокса на лестницу.
В тот же вечер, ни с кем не попрощавшись, Маша влезла в переполненный поезд, и спустя неделю на Казанском ее встретила приятельница москвича, Сусанна Федоровна. Она определила Машу на подготовительные курсы, ни о чем не расспрашивала и только следила, чтобы Маша вовремя ела, мылась и стирала свое белье.
Прошло два месяца, и вдруг пожилая женщина сказала:
- Можешь написать матери. Ее выпустили, а Михал Степаныча убили сокамерники.
Ночью Маша тщетно пыталась разреветься, а утром отправила матери короткое письмо. Велела отцовские деньги высылать ей на главный почтамт и никому не говорить, где Маша. Осточертели ей сибирские знакомства. В августе Маша сдала экзамены на аттестат зрелости, а еще через месяц - вступительные в университет, переехала в общежитие на Стромынку и потеряла из виду Сусанну Федоровну.
Нет, не пойти на похороны Маша не могла...
Гроб водрузили в главном зале, а жаждущие постоять у тела вытянулись очередью в соседнем. Их оказалось не меньше, чем входивших с улицы простых смертных. На возвышении вдова склонялась над покойником, что-то поправляла, гладила его поредевшие, зачесанные назад белые волосы и желтые щеки.
"Работает на публику", - подумала Маша.
Последние полтора месяца у нее с благодетелем вновь начался роман, точнее - страшный загул. Машу только что оставил четвертый муж, а благодетеля перевели с начальственной должности на почетную, и досуг у него стал немерянным. Впрочем, он и при Сталине умудрялся влетать в двухнедельные запои, сваливая самые неприятные мероприятия на своих безропотных соратников.