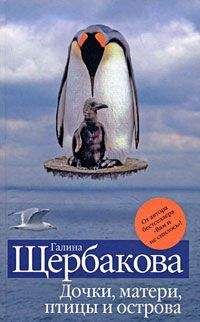"Работает на публику", - подумала Маша.
Последние полтора месяца у нее с благодетелем вновь начался роман, точнее - страшный загул. Машу только что оставил четвертый муж, а благодетеля перевели с начальственной должности на почетную, и досуг у него стал немерянным. Впрочем, он и при Сталине умудрялся влетать в двухнедельные запои, сваливая самые неприятные мероприятия на своих безропотных соратников.
Нынче они распоряжались на похоронах. Поскольку Маше нельзя было стоять рядом с вдовой или сидеть перед гробом среди родственников, ее несколько раз пропускали на караул без очереди.
Вдруг на возвышении, возле вдовы, появился мальчик. Цепляясь за мать, он испуганно глядел на покойника, словно ожидал от него нахлобучки.
Мальчик смутил Машу, и она решила больше не становиться с повязкой к гробу.
В соседнем зале очередь повязочников, не единожды перепутавшись и переплетясь, превратилась в откровенную толчею. Еще бы! Как усидеть дома, когда человек сам себя казнил?!
"Поторопился, - подумала Маша. - Спьяну поверил, что его дела - швах. Умный мужик, а повел себя, как мальчишка. Оставил меня одну..." - всплакнула она.
Действительно, Машины обстоятельства вызывали тревогу. Диссертацию, которая писалась три года, нынче защищать было бессмысленно, поскольку на двухстах страницах Маша сорок четыре раза процитировала Сталина.
"Как будто можно было меньше? - поморщилась она. - Нет, с диссертацией надо распроститься. Даже будь он (то есть благодетель) жив, все равно с защитой ничего бы не вышло. Да и в последнее время он разве что-нибудь значил? Значил бы - не покончил с собой... А я хороша?! О чем думаю? Я - живая. Напишу новую..." - Маша вздохнула, сорвала с рукава повязку и прошла в третий зал, где было просторней.
Здесь, под приглушенное рыдание отдаленного духового оркестра, сидели или угрюмо сновали из угла в угол отстоявшие в карауле интеллектуалы и партийные бонзы. Кое-кто безразлично кивал Маше. Но большинство отворачивалось, и Маша вновь ощутила себя, как в детстве возле горкомовского дома, униженной и обойденной. Хотелось уйти от этих важных мужчин и заносчивых женщин, от занавешенных черно-алыми полотнищами зеркал и от медленно, будто расчетливо, бьющих по ребрам медных всхлипов. Но надо было стоять, не опуская головы, хотя купленные накануне туфли немилосердно жали, а душа ныла, как в кресле у дантиста. Куда уж лучше в растоптанных сандалетах терпеливо ожидать на Казанском вечно опаздывающий пассажирский. Маша представила себе, как мачеха и отец мечутся по перрону в поисках носильщиков, и ей стало не по себе.
"Женька небось до сих пор на меня злится за танцы. Но отец, святая душа, заслужил, чтобы я его встретила. И надо же, чтобы их приезд совпал с похоронами! Как хорошо расхлюпаться на отцовском плече! Он меня любит. Он меня видит не такой, как эти..."
Маша снова оглядела зал, где все казались ей личными врагами. "Наверное, обо мне шепчутся: "Красивая, а распутная. Глаза какие порочные... Ненасытная, жуткая особа..." А отец меня жалеет. Он-то знает, что я попросту невезучая дура", - разжалобила она себя и вдруг в дальнем углу заметила Сусанну Федоровну и Гришека. Сусанна вовсе одряхлела, зато Гришек был до удивления похож на себя сибирского, или даже довоенного, хотя подбирался к тридцати годам.
"Почему я о нем не вспоминала?" - удивилась Маша и тут же, словно не жали туфли, словно не на похоронах, словно только вчера расстались, она раскованно, задорно, будто желая разозлить всех этих надутых мужчин и завистливых женщин, прошла сквозь настороженный зал, небрежно кивнула старухе, а растерявшемуся Гришеку сказала громко, точно они были одни:
- Хорошо, что я тебя нашла. Они сегодня приезжают. Не знаю, кто их встретит.
- Ничего, доберутся, - промямлил Токарев.
- А где их потом найду? Остановятся у какой-то подруги... - Маша нарочно не назвала мачеху "Женей", что могло прозвучать фальшиво, а Гришек это понял.
- У меня пустует комната, но они ко мне не захотели, - улыбнулась Маша, радуясь, что комната в самом деле свободна и она, Маша, тоже. - Знаешь, честно говоря, я боюсь идти одна. Ты сегодня к ним не собирался?
Двадцать лет назад, когда возле ажурного забора Маша, глядя на голубой велосипед, кричала: "Хочу такой! Хочу такусенький!.." - в ее голосе была настырность. Но теперь, среди траура и горя, она была такая открытая и доверчивая, что Токарев узнавал в ней не только прежнюю Машу Челышеву, а еще и выношенную долгими годами мечту о ней. Впрочем, Токарева волновало и ее счастливое лицо, и не меньше лица - ее большое ладное тело, что, не таясь, само к нему тянулось.
Сусанна Федоровна сердито посмотрела на молодых людей, поднялась и, опираясь на палку, заковыляла в главный зал к гробу. Ни Маша, ни Токарев не обратили на нее внимания.
"Видишь, как здорово! - радовались не только зеленые Машины глаза, но вся она, от переставших жать лодочек до растрепанных темно-русых завитков. - Я встретила тебя и я совершенно не занята. А то, что я здесь, так ведь и ты сюда пришел. Я ничего от тебя не таю и ничуть не притворяюсь. Иначе бегала бы сейчас по Казанскому перрону, изображая любящую падчерицу. Но я здесь, и здесь я рада тебе. А ты?"
"И я!" - едва не крикнул Токарев.
Когда начались речи и все перешли в главный зал, Маша с Гришеком выбрались на улицу, влезли в один из похоронных автобусов, где потом их сжали и кинули друг к другу. У Ново-Девичьего они замешкались, отстали от провожающих, и милицейский кордон спросил у них пропуск.
- Это что тебе - Дом кино? - злобно расхохоталась Маша и, схватив Гришека за руку, потащила его вверх, мимо монастырской стены, и дальше, через площадь, в проулки медицинского института, где она и Гришек стали яростно целоваться, не обращая внимания ни на щебетню студенток, ни на истошный лай спрятанных в клетках подопытных собак.
Ночью Женя проснулась от холода. Старика рядом не было. Она подождала с четверть часа. Пашет не возвращался. Накинув халат, она вышла в кухню и обмерла: Челышев сидел на подоконнике.
- Ты что? - припала к нему.
- Ничего, не свалюсь. Иди.
- Простудишься. Давай принесу пончо.
- Иди, - сказал он.
В воскресенье Женя уже не перепечатывала токаревские мемуары, а старик целый день пил водку, что прежде ему категорически возбранялось. Ночью он снова сидел на кухне, но окна не открывал.
"Вряд ли можно острей презирать женщину, чем Пашет - Варвару Алексеевну, размышляла Женя. - И вот он раздавлен горем. Я-то считала, что эта смерть его не растревожит, и поспешила объявить об Америке. Бедный Пашет. Вторую ночь не спит, пьет и неизвестно, о чем думает. А завтра он весь день на ногах... Токаревы зачем-то повезут гроб в церковь, хотя, мне кажется, такую женщину вносить в храм неприлично. А меня будет прилично? - вдруг спросила себя. - Я обойдусь без отпевания... Разве что так. Бедный, бедный Пашет. Не повезло ему с женами. Но я старалась. Еще бы! Изменяла ему, как могла... Но другая давно бы его бросила. В Москве он стал невыносимым. А зачем его сюда привезла? В Сибири Пашету было тепло и уютно. Там он отмахивался от проклятущих вопросов. У него была я. Меня надо было кормить, а, главное, оберегать от госбезопасности. Пашету некогда было углубляться в свои разногласия с Левиафаном. Да и кто тогда спорил с государством? Все помалкивали. Жили тихо. Вернее, не жили, а таились. День прошел, не арестовали - и гран мерси!"
Женя снова вспомнила, каким Пашет в сибирские годы был моложавым, даже молодцеватым, и как (что греха таить?!) она ревновала его к сотрудницам "Сибшахтпроекта". Пока училась в медицинском институте и позже, когда осталась при кафедре, крутить романы ей даже не приходило в голову. Со всех ног она летела домой, потому что все в городе было ссылкой, и только их двухкомнатная квартира - островком воли. Женя надеялась, что и в Москве они будут счастливы, но, по-видимому, Пашет все-таки сдал. Поздно ему было привыкать к новым людям, местам и обстоятельствам. Это обнаружилось почти тотчас, но катастрофа разразилась полгода спустя.
В ожидании твердо обещанной угольным министерством комнаты Женя с Пашетом снимали какой-то закуток, наподобие пенала, и чуть не каждый вечер их навещал новоиспеченный зять - Григорий Яковлевич. Однажды разговор зашел о войне, и Токарев спросил спьяну:
- Интересно, Пашет, какая тебя муха укусила? Внутренний эмигрант, контрик - и вдруг пошел добровольцем! Это не в образе. Куда логичней тебе было бы остаться при немцах. От отщепенства до коллаборационизма - один шаг...
- Уйми его, - сказал Челышев жене. Он еще не привык, что зять ему "тыкает" и, подражая Жене, зовет "Пашетом". У зятя "Пашет" звучал, как щенячья кличка. К тому же пенал был отделен от хозяев тонкой фанерой.
Женя, забившись с ногами в угол дивана, приглаживала разметавшиеся Гришкины вихры и молчала. Она сердилась на мужа. Оказалось, что их одиннадцатилетний такой счастливый брак для Москвы не пригоден.