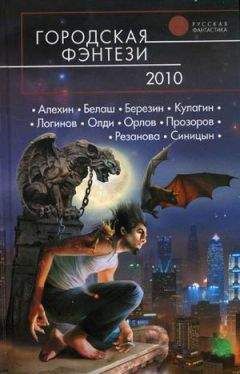Он снял очки, потер переносицу тыльной стороной ладони каким-то уютным домашним жестом и, прищурившись, улыбаясь, слепо поглядел на Надежду. И она вдруг поняла, что он на самом деле страшно рад ей…
Вот и выход, — подумала Надя и крикнула:
— Едем!
— Впере-е-ед! — Марготин победный клич взвился в пространстве буфета, как бы указуя дорогу… и все трое, вскочив столь поспешно, что чуть не опрокинули стулья, — так чудесен показался им вспыхнувший полудетский азарт, горячащий кровь привкус авантюры, предновогодняя гонка сквозь пуржащую Москву к неведомым берегам, что они почувствовали себя внезапно сродненными этим внезапно занявшимся огнем, и, проорав едва ли не хором: «С наступающим! Будьте счастливы все!» — с видом заговорщиков торопливо покинули театр.
И Москва покорно ложилась им под ноги в шорохе шин, и кружила, дурманила головы огоньками задних огней, маячивших впереди, обжигала глаза светом встречных фар, смеясь, падала в свежевыпавший снег — слегка подморозило, хлябь исчезла куда-то, будто её и не было, и Москва расцветала легким белым цветом — шел снег, долгожданный, желанный, невесть откуда взявшийся, — уже давно позабытый посреди талой зимы пушистый снежок… И сияющая Москва одаривала им как чудом — добрый город улыбался темнеющим небесам и звездам, глядящим в глаза, он привечал каждого из тех, кто брел по его мостовым, он окутывал дома и деревья снежной ласковой пеленой, обнимал их, голубил, покачивал, он шептал им: «Не бойтесь… все хорошо!» и радовался обновленному золоту куполов — в церквах шла служба — близилось православное Рождество…
«Ныне приступих аз грешный и обремененный к Тебе, Владыце и Богу моему; не смею же взирати на небо, токмо молюся, глаголя: даждь ми, Господи, ум, да плачуся дел моих горько…»
Белый панельный монстр неподалеку от кольцевой возвышался над перелеском, несмело к нему прикасавшимся зеленым своим язычком. Дом горланил, кипел, полыхал огнями ракет и наряженных елок, хлопал дверьми, взрывался мириадами конфетти, затягивал песни и топал, танцуя на головах у соседей — малогабаритные кухонки, низкие потолки, дым, шум, гам, и вино, вино…
Лифт. Девятый этаж. На двери колокольчик. В коридоре внутри — резкий запах псины.
— Извините за это амбре — наша Чара месяц назад ощенилась. — Георгий суетился в дверях, помогая дамам раздеться. — Проходите скорее в комнаты там такого запаха нет — он только здесь, в прихожей, да на кухне. Лидуша, встречай гостей! Ау, где ты?
Маргота изумленно вскинула брови, с вопросительной ухмылкой глядя на Надю. Мол, вот тебе раз: те же и Лидуша! Но та сделала вид, что не приметила немого восклицанья подруги, и принялась разглядывать корешки книг на полках. Благо, поглядеть было на что — похоже, в этом доме книги теснили хозяев, а теперь и гостей — в гостиной скопилось уже много народу.
— Девятнадцатый век! Совершенный девятнадцатый век! — послышался громкий возглас, и к вошедшим направился плотный красавец-мужчина в летах, судя по акценту, грузинской национальности.
— Грома, почему ты мне не сказал, что у тебя будут гостьи из давно прошедших времен? — он поцеловал руку Марготе, потом Наде и, задержав обе Надины ладони в своих, спросил. — Вы не согласились бы мне позировать?
— Это Дато, человек-оркестр, — представил Георгий красавца, — наш грузинский Микеланджело. Он творит чудеса во всех жанрах — и в живописи, и в кино, и в театре…
— А почему ваш Микеланджело назвал вас «Грома»? — поинтересовалась Надя, улыбаясь Дато. — Это что, кличка такая?
— Да, вроде того… Так меня друзья ещё с институтской скамьи прозвали: Гром или Грома — как кому больше нравится…
— Это потому, — вставил появившийся в коридоре приятель хозяина в джинсовом костюме, — что с этим очкариком лучше не связываться… Не дай Бог! Он страшен в гневе. Потому мы и прозвали его Громом. А я Сережа, доверительно сообщил Наде через плечо джинсовый приятель, обнимаясь с хозяином дома.
Нет, не приятель… друг, — отметила она про себя, глядя как любовно-небрежно друзья здороваются друг с другом. — Причем, один из самых близких…
Она вгляделась в светлеющие улыбкой его черты, в смешную резиночку, перетягивающую густой рыжий хвост волос за спиной, в то как чутко он движется, не переставая излучать в пространство теплую, чуть ироническую улыбку… и поняла: это человек! Настоящий. Живой. И почти не прячется. И сердце у него больше разума. Это ведь сразу чувствуешь, что внутри: теплится там живой огонек или так — оболочка одна… Да. А если у Грома друг такой, значит сам он…
«Стоп! А при чем тут этот Гром, разрази его… Хороший у него друг — и хорошо! Мне-то до него что за дело? И почему вдруг так легко стало на душе, когда узнала, что этот вежливый интеллигентик в очках страшен в гневе? Значит, может за себя постоять. И похоже, не только за себя…»
Пошла вон, дура! — в сердцах велела Надя самой себе.
При этом на губах её блуждала светская полуулыбка. Она кивнула рыжему, улыбнулась Дато, как бы обещая этой улыбкой продолжить разговор чуть попозже, и обернулась к Георгию, пытаясь его о чем-то спросить, но сама не зная, о чем…
— Простите, звонят! — извинился Георгий и пошел открывать.
В это время из-за приоткрытой двери на кухню выглянула немыслимая собачья морда размером с небольшой японский телевизор: темная, строгая и безухая, с влажным черным носом и вопрошающим взглядом измученных глаз.
— Фу, Чара, иди на место! — прикрикнула на собаку явившаяся из-за закрытой двери пышноволосая коренастая женщина с невыразительными чертами какого-то глухого лица.
Она небрежно кивнула пришедшим, даже не пытаясь изобразить радушия, взгляд её шарил по коридору, явно отыскивая кого-то. Не обнаружив объект своих поисков, хозяйка, — а это явно была она, — скрылась в дверях. И Надя в глубине души почувствовала себя обиженной, — нет, она не возлагала на этот вечер никаких сентиментальных надежд, — у нее, слава Богу, Володька и никто ей больше не нужен, но все-таки… Появление этой надутой Лидуши сразу сбило весь настрой, — словно холодком потянуло, и от этого сквозняка захлопнулась в душе какая-то потайная дверца…
Дато провел их с Марготой в гостиную, дверь которой неустанно отворялась и затворялась, — хозяин скакал от одного гостя к другому, вкладывая в протянутые руки тарелки и рюмки, — у окна был накрыт шведский стол.
Мельтешение, говор и гонор, безразличные взгляды, скользящие вдоль лица, светский тон, погремушечный смех, праздное любопытство…
Нет, зря она согласилась! Наде стало тоскливо — так провести новогоднюю ночь… среди этих чопорных погремушек! Что за невезуха такая…
Она вспомнила как они с Володькой встречали уходящий год — вдвоем в постели… и сердце сиротливо сжалось.
«Но ты же сама этого захотела — вот и расхлебывай: ты тут, он там… Вот только где это ТАМ? — полыхнуло в ней ужасом, — сунулась невесть куда, невесть к кому… полный бред! А этот Георгий — тоже подарочек: зовет в гости двух девиц, а сам Лидушу в карманчике прячет!»
Надин хмель проходил, возбуждение сменилось усталостью — побаловалась и хватит!
Она подошла к телефону, сняла трубку, набрала свой номер: гудок, другой… пятый… девятый. Володи дома не было. И сразу все горькое и больное нахлынуло на нее. Как же можно так было — сбежать от него, даже не предупредив, где она… Да ещё эта беременность!
Будет, да есть ли она? Надо сходить на УЗИ. Ну, задержка — бывает… У неё же цикл очень неровный. Однако, интуиция подсказывала, что можно не сомневаться: наступившую беременность, — а это будет уже четвертая, — она ощущала в себе едва ли не с первого дня…
Что же делать? Аборт? Ну конечно, что же еще! Не рожать же при такой свистопляске! А, собственно, почему бы и нет? Пусть даже они и расстанутся — это ведь её ребенок! Расстанутся… Господи! Мысли разбегались, путались. Марготу уж унесло куда-то…
Она вышла из гостиной, задумчиво постояла в коридоре, разглядывая всякие безделушки, фотографии и глиняные фигурки, расставленные на полочках, а потом как в полусне двинулась дальше. Толкнула одну из дверей это оказалась совсем малюсенькая комнатка, в ней стояли только письменный стол, заваленный бумагами, торшер и узенький диванчик-топчанчик. Со стола скалилась клавишами пишущая машинка.
Надя вошла. Села на стул у стола. Включила старинную настольную лампу с выцветшим абажуром. Выключила… Снова включила. Выключила…
Как там Ларион? Она просчитала: тот абаканский поезд вернется в Москву не раньше седьмого января — он неделю в пути плюс три дня стоянки в Абакане. Значит дней семь на подготовку у неё есть… Завтра надо бы…
Дверь отворилась. На пороге — Георгий.
— Надя, вы скучаете. А это не есть хорошо! И сейчас я буду с этим бороться.