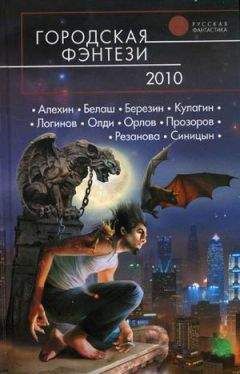Легонько капали минуты. В комнате качался сиреневый сигаретный сумрак — Георгий курил одну за одной, без отрыва глядя на Надю. И она закурила тоже. Лицо её разгорелось.
— Ты знаешь, не могу смотреть на людей. И жалко их, и… не знаю обидно за них, что ли… Я понимаю, что все они по-своему правы: ведь забота о хлебе насущном — сама плоть! Но я не хочу быть равной этой плоти. И вся наша озабоченная суетливость кажется мне выхваченной из чего-то неизмеримо большего… Я не знаю тому названья, но хочу узнать. И с утра до вечера тереблю себя вопросами: зачем тут болтается — в этом жутком хаосе моя непонятная и ненасытная жизнь? И от этого все время удушье, и сердце так бьется, бьется… словно хочет сбежать от меня. Я наверное его уж замучила. Совсем не чувствую своей молодости… легкости. Наслаждения тем, что тебе дарит жизнь… я его не ощущаю. Или боюсь его. Просто боюсь жизни. Выходит, не властна над собой. А ведь это в самой природе танцовщицы — в ней стремление преодолеть все земное, тяжкое… Это радость! Зачем же все, если не для радости? Я понимаю, что глупости говорю, — какая тут радость… гадость! И вообще, всегда и всем было тяжко и страшно — мир-то наш во грехе! Царство Князя мира сего — не к ночи будь помянут… Ну вот, видишь, куда повело.
Георгий слушал молча, не перебивал, и только запястье его руки, сжимавшей сигарету, чуть вздрагивало. Надя поднялась, вздохнула и… снова села. И взглянула на него в упор — понимает ли? И, увидав в его глазах такую боль, какую прежде ни в ком не встречала, отшатнулась в испуге… за него. Если человеку дана такая способность сострадать, то каково жить ему? Ему-то — не то что не легче, чем ей, — а тяжелее стократ! Потому что, если мужик живет в этой юдоли скорбей с душою, которая ощущает чужую боль как свою, это…
Она не додумала — не захотела. Просто отшатнулась от этой правды, встречи с которой не ожидала. Она была к ней не готова. Не думала, что есть в этом городе человек, ей созвучный. Ее сути. Душе. Ее человек…
И потому кинулась в свой прерванный монолог как в омут головой, чтоб он помог им обоим перемочь эту боль… накручивая её все новыми и новыми витками как шерсть на клубок.
— Грома… можно я тебя тоже буду так звать? — он молча кивнул. — Ты этим разговором все во мне всколыхнул. Вот теперь и расхлебывай! Знаешь, я в детстве подолгу стояла возле особняка Рябушинского у Никитских ворот мама часто водила меня гулять на Тверской бульвар. Мне казалось, что за его стенами, за этими мозаичными орхидеями — какая-то неведомая жизнь, и вот сейчас распахнутся тяжелые двери и случится все то тайное и чудесное, чего так ждала моя душа. Но они так и остались закрытыми. А на меня навалились серые толпы с раздавленными лицами… И даже бедная мама — она как будто тоже стала частью этой толпы… Она сдалась, съежилась, позволила себя сломать! Она… я не смогу тебе объяснить — сумбур какой-то… А ты говоришь: зов, узор… — она потерянно уронила руки, сдавливавшие виски, себе на колени. — Это все только иллюзии.
Надя отвернулась, сгорбилась и прикрыла глаза рукой — её вдруг зазнобило…
Георгий с нежностью взял её руку, осторожно отвел от лица и поцеловал.
— Ты просто устала — очень близко к сердцу все принимаешь. Это пройдет.
— Да, наплевать мне на все! — в ней снова вскипело злое, колючее. — А ты банальности говоришь.
— Ну-ну, не надо так. Знаешь, радость… она вернется. — Он улыбнулся ей. — Вот попробуй вспомнить сейчас — так бывает… Одна и та же мысль словно поворачивается к тебе разными гранями… и вдруг одна из граней вспыхивает, как бы освященная изнутри… и оказывается полной скрытого смысла, которого нет важней. Этот смысл и есть ключ к себе настоящей, знак, помогающий найти свой путь… Знак, посланный свыше. А через миг, когда гаснет невесть откуда взявшийся свет, истина меркнет и кажется более чем банальной. Иллюзия? Самообман? Нет, перетягивание каната! Ведь мы, наши души — поле битвы двух сил… это не я сказал — это ещё Достоевский… И каждая бьется за нас, а нам выбирать. Что важней — внезапно вспыхнувший в сердце свет или…
Дверь распахнулась — на пороге стояла Лида.
— Георгий, тебя гости уж заждались, давай-ка быстро к столу. — Она откинула со лба прядь волос, и на пальце тускло блеснуло обручальное кольцо.
Надя так быстро вскочила, что пошатнула торшер, и вышла из комнаты, даже не взглянув на своего собеседника. На лице её леденело холодно-светское выражение.
Тут в прихожей раздался звонок, Георгий крикнул:
— Ну, наконец-то! Мои наверно пожаловали!
Схватил с полочки заранее приготовленную хлопушку с конфетти, и по его просиявшему лицу Надя поняла, что он ждет особенно дорогих гостей…
Дверь отворилась, хлопушка бабахнула…
Из гостиной послышались нестройные клики: «Штрафную! Опоздавшим ерша!»
А на пороге, оглушенный выстрелом, с темным пятном копоти на лице, стоял Петер Харер и старательно пытался удержать на лице улыбку…
Стол в гостиной накрыт, он отчаливает — белоскатертный крепкосбитый паром… И новогодняя ночь, играя, переправляет сидящих за ним с одного берега на другой, она торопит — быстрей! — ну-ка, отведайте нового времени: как там оно на вкус? Опрокиньте себе на тарелку горстку салата, — ещё и еще, — а там и огурчик подоспеет соленый мокренький, а тут лососинка розовощекая, дышащая во рту, а вот черемши крепкий стебель, и помидорные ломтики с чесноком, — полупрозрачные, недоспелые тепличные чада… инфантльно-розовые и беспомощные, они требуют себе на подмогу изумрудной иллюзии лета, — легкотрепетной зелени кинзы, фиолетово-мускусной плоти травы рейган, — они в бессилии падают на тарелку и почивают до срока, присыпанные укропом, ведь сейчас не до них… ведь селедка — вот то, что нужно после глотка слезной водки, после бодрящей её горькой ясности — да, сейчас надо острого, резкого — сейчас, когда близится кульминация: вот-вот сомкнутся стрелки часов и разгоряченное застольем время вознесет каждого над собственной жизнью, — не упусти её, разгляди! — вон пестреет она и бьется, набирая скорость в часовом механизме… Но поздно, не разглядеть! катарсис, бой курантов, звон хрусталя, — и мешается все, и сломя голову вниз — к подножию… на равнину пресного бытия — к окутанным паром землистым крупицам горячей картошки, к ломтю черного хлеба, к горчице, отравляющей своей злостью ломтики ветчины, к безалаберному удальству гулянья, потерявшего смысл, — все свершилось, и изменить ничего не дано, ни предугадать, ни прозреть, — будь что будет…
С Новым годом!
И летит, парит новогодняя ночь в волнах вальсов — грянул Штраус, и сбившиеся за столом вдруг ощутили свою причастность к тайному току времени — эта музыка, слившаяся в сознании с предвкушением чего-то нового и хорошего, словно фонарик зажглась в ночи и понесла, понесла…
Вот же ты, радость, ты — в несвершившемся, в том, что ещё впереди, что маячит в неверном будущем, колышется несказанной возможностью… значит ты существуешь и надо только тебя дождаться!
Надя плыла в теплой волне Хванчкары, захлестнувшей шампанское. Рядом с ней сидел Петер Харер, а с ним — переводчица Инна. Вместе они образовывали некое странное трио, пытаясь наладить беседу хоть как-нибудь — Петера намеренно посадили за столом рядом с Надей, дабы он чувствовал себя поуютнее — ведь все же коллеги… Тема театра поддерживала на плаву.
Маргота уже затерялась где-то в лабиринтах бело-панельного монстра двери хлопали, люди то и дело входили и выходили, и возникало ощущение такой разгульной и бесшабашной вольницы, когда любой поступок кажется оправданным и уместным, а питие, шатанье и треп — самыми привлекательными свойствами бытия…
Петер пил мало и мало ел — он глядел, слушал, врастал, впитывал… Подливал вина Наде, касался её взгляда своим, её рюмки своей и хотел говорить с ней — много, о многом… но мешал языковый барьер. Все же он знал язык не настолько, чтобы свободно вести беседу…
Переводчица Инна расслабилась — хохмила, курила, кокетничала, то и дело выскакивала потанцевать, забывая о своем подопечном, — она отрывалась со смаком, стреляя глазами в сторону группы мужчин, собравшихся за противоположным концом стола. С ними был и хозяин. Лидии возле него не было.
Надя тоже поглядывала иной раз в ту сторону, думая с неожиданной теплотой: «Какие хорошие лица! Кстати, явно все это люди с достатком, но среди них нет ни одного из таких, что собрались в театральном буфете… Боже, неужели Володька станет одним из них — презрительно попирающим землю ботинком „нового русского…“»
Ни слова о политике, о дурной власти или росте преступности — ни слова о том, что вскипало и булькало в умах миллионов, что поглощало все силы, заставляя цепенеть от бессилия, и только, кривя губы, молчать или брызгать слюной, вцепляясь друг другу в глотки… Надя всегда старалась уйти от подобных разговоров, ей казалось, что опустившись до них, она впустит душу неведомого врага — он уляжется на груди как безобидный с виду домашний зверек, потом выпустит когти, вцепится в кожу, прорвет её и прильнет зубами к душе, и всосет её, станет пить, — а душа обмелеет, сдавшись без единого крика, без сопротивления… потому что все, что исходит из вражьего стана, живет, питаясь чужою душой… А скармливать душу свою она никому не хотела!