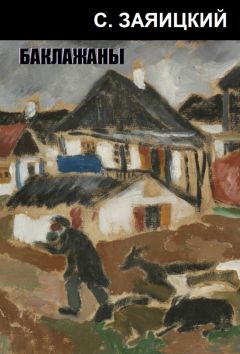— Она удивлялась, что вы к нам не заходите…
Бороновский выразил при этом какое-то радостное недоумение.
— Она удивлялась? Как же она удивлялась?
— Говорила: «Что-то Петр Павлович к нам давно не заходил».
— В самом деле!..
— Серьезно…
«Если она этого и не говорила, — подумал при этом Степан Андреевич, — то могла ведь сказать».
— Вы передайте ей от меня привет и скажите, чтоб она на меня не сердилась… дело в том, что у нее могут быть причины на меня сердиться.
Дверь в комнату вдруг распахнулась. Вошел небольшого роста плотный и уже пожилой человек в люстриновом потертом пиджаке и в соломенной фуражке. Он был красен красным загаром, оттенявшим его седые усы.
— Вот, — проговорил Бороновский с некоторым страхом, — это доктор Андрей Петрович, а это… Кошелев, Степан Андреевич… племянник Екатерины Сергеевны.
— Очень приятно-с…
Доктор хмуро оглядел комнату, потом подошел к Бороновскому и, глядя в пол, принялся щупать его пульс…
— Гробовщика в гости позовите, чайку попить… чтоб гроб получше сделал, — грубо сказал он вдруг.
Бороновский смущенно поглядел на Степана Андреевича, словно хотел сказать: «Ведь вот — он всегда так, а между тем гуманнейший человек».
— Небось вставали сегодня? Сознайтесь, вставали?
— Только к окну… Вот их…
— Ну, и подыхайте, мне наплевать!..
— Андрей Петрович, голубчик…
— Сами лечиться хотите, извольте-с… Мне хлопот меньше… Сволочь вы эдакая, ведь вам же нельзя двигаться… и разговаривать нельзя…
— Я разве разговариваю?
— Гостей принимаете… Вы бы салон открыли… Подумаешь… мадам Рекамье.
— Я просто так зашел, — пробормотал Степан Андреевич,
— Да, вот вы просто так заходите, а человек из-за этого может околеть тут же, на месте… Нельзя ему говорить, понимаете, нельзя… Вы должны, если, конечно, добра ему хотите, кулак вот так держать у него перед пастью… Скажет слово — по зубам…
— Андрей Пет…
— Цыц!.. Ей-богу, ударю… Скотина какая!.. Одного легкого совсем нет, от другого осталась дыра с каемочкой, а он все философствует… Душа, мол… бессмертье… Галиматью-то свою разводит… Лопух, лопух вырастет, — и на том скажите спасибо матушке-природе. А я тот лопух сорву и буду от мух отмахиваться… Понимаете?.. А я умру — другой будет моим лопухом. Вот тебе и мировая эволюция… Ну, дыхните-ка…
Он приложил ухо к груди Бороновского.
Степан Андреевич кивнул головой и на цыпочках направился к двери.
Бороновский тоже кивнул.
— Не болтай головой… Еще вздохни… Скажи: раз, два, три…
Степан Андреевич вышел во двор.
Теперь уже прямо по улице направился он к дому священника.
И — странно. Опять у дома стоял фаэтон Быковского, но на этот раз выносили из дома корзину!
«Неужели уезжают, — подумал он. — О, счастье!»
Ему уже ясно представилось мелодраматическое объяснение в светленькой, чистенькой комнатке. Вероятно, будут сопротивления, а потом и слезы, но в середине произойдет нечто, что заставит забыть и сопротивления и примирит со слезами. О, счастье!
Опять на крыльце четверо целовали одну, но поразило то, что эта одна была в шляпке и в пальто, а остальные все в самом домашнем: инженер в толстовке, Софья и девицы в шитых рубахах.
Ах!
Фаэтон с дребезгом покатил по булыжнику. Попадья покатила. Куда?
Степана Андреевича провожавшие (только провожавшие) заметили. Надо было идти по намеченному направлению, то есть к ним. Девицы кусали губы и медленно багровели. Софья щурилась и улыбалась. Инженер кроил идиотскую харю.
— Здравствуйте! — сказал нарочито развязно Степан Андреевич. — Куда это Пелагея Ивановна поехала?
— В Харьков, можете вообразить, — отвечала Софья.
— Тоска по мужу, — подтвердил инженер.
Девицы взвизгнули и, теряя веревочные туфли, ринулись в дом. Слышно было, как там они вопили от хохота.
Степан Андреевич против воли покраснел.
— Заходите, — сказала Софья, — вы в трилистник играете?
— Спасибо… Я, собственно, гуляю…
— Не пойти ли купануться… а, Софи? Фи готофи?
Степан Андреевич вышел в степь.
Вдали над черной дорогой стояло легкое облачко черной пыли.
Небо было ясное, синее.
Он оглядел весь этот чудесный пьянящий мир и со вкусом сказал:
— Дура!
Часть 11
Дон Кихот номер первый
Дни потекли опять однообразно, и каждый день разбивался так: утром купание с инженером, потом завтрак, потом спать, потом обедать, потом рассказывать про Москву и слушать рассказы про петлюровщину, махновщину и добровольщину. В тишине августовского вечера однозвучно лилась тетушкина речь.
— … и тогда они ему кожу всю состругали рубанками и он, конечно, через три дня от гангрены умер. А еще был у нас картузник Засыпка, так ему живот разрезали и кишками к дереву привязали. Ну, он, конечно, и часу не прожил… А картузы делал такие, что гвардейцы ему из Петербурга заказы присылали…
Вера в это время уже не шила. Было темно. Розовый сумрак тихо надвигался на дом и на сад. Тускнели деревья.
— А я вчера в комнате тарантула убила, — сказала Вера.
— Да что ты? Знаешь, Степа, что это значит?
— Нет. Понятия не имею.
— А это значит, что лето кончается… Тарантул в доме тепла ищет. И чувствуешь, уже свежо становится к вечеру.
Стемнело довольно рано, и Степан Андреевич пошел спать. Делать было решительно нечего.
Перед сном, однако, он прошелся по саду и внизу возле самого забора увидал вдруг темную человеческую фигуру. Он вздрогнул по привычке, привык за революционное время бояться незнакомых. Однако тотчас узнал доктора Шторова.
— Мое почтение, — сказал тот не слишком как-то любезно, — очень рад, что на вас наткнулся. Я-то именно к вам… Дело вот в чем. Бороновскому этому каюк пришел. Подыхает.
— Да что вы говорите?
— А вот — то самое, что говорю. Да-с. И он, понимаете, на стену лезет… Желает знать, не передаст ли ему чего… эта ст… сестра ваша двоюродная… Жить ему остался кошкин хвост. Я бы не пошел такие сантименты разводить. Да жаль его… чтоб его черт подрал. Скажите ей, что, мол, он умрет вот сейчас… Больше ничего…
— А вы сами…
— Н-нет… я с ней не разговариваю… Извините… Только надо торопиться.
Степан Андреевич заробел (таких людей опасался) и пошел наверх, к дому.
— Вера, вы не легли? — спросил он, подойдя к ее окну.
Ответ был дан не сразу.
Из соседнего окна высунулось искаженное ужасом лицо тетушки.
— Тсс… они, — шипела она. — Вера молится.
Но Вера вдруг резко подошла к окну:
— Не суйтесь, мама, не в свое дело! Вы меня, Степа?
— Да… дело в том, что Бороновский умирает…
— А…
Она сказала «а» совершенно равнодушно.
— Почему вы знаете?
— Там… доктор Шторой…
— Жаль… да ведь этого надо было ожидать…
— Я сейчас к нему пойду… вам… ничего не надо передать ему?
— Что же передать… поклон умирающему неудобно передавать.
И она беззвучно, сделав злые глаза, расхохоталась.
— Верочка, — робко раздалось в глубине комнаты, — ты бы сходила к нему.
Но Вера даже не удостоила ответом.
— Лучше всего скажите ему, что я уже спала, и вы меня не видали…
— Хорошо.
Степан Андреевич сошел вниз, спотыкаясь на бугры и рытвины.
— Ну? — окликнул доктор из мрака.
— Ничего не велела передать.
— Ничего? Ах…
После этого крепкого изъяснения наступила тишина.
— Слушайте, — вдруг тихим голосом заговорил доктор, — если вы не такой же, как эта ваша бісова родственница, сделайте великое дело. Пойдите к нему… обманите его… скажите, что она ему велела… ну, хоть, я не знаю, вот этот цветок передать… Нельзя же так… Ведь человек же в самом деле…
Степан Андреевич нерешительно взял цветочек.
— Пойдемте… Я боюсь только… что…
— Она не узнает, а он все равно через час сдохнет… Да последние-то секунды зачем человеку отравлять? Нельзя же, господа, ведь человек все-таки… Собаку и то жаль… Ах, стерва! Подлая стерва!
Сквозь разрушенный забор они вышли на дорогу и пошли мимо левады темных пирамидальных тополей.
— Мы вот сейчас тут через Зверчука, — бормотал доктор, — о, черт бы подрал эту гору!.. Одышка…
Но они, не останавливаясь, прошли темными дворами и как-то сразу очутились у крыльца Бороновского.
Галька сидела на пороге и глядела на звезды.
— Жив пан? — спросил доктор сердито.
— А як же, — отвечала та с глуповатой улыбкой, — нехай жив буде.
Они вошли в темные сени и потом в совершенно темную комнату, где правильно и ритмично работала какая-то пила:
— Хыпь, хыпь…
Степан Андреевич не сразу понял, что это хрипел умирающий.
— А, бісова дітина, — сказал доктор, — и огня не могла зажечь.