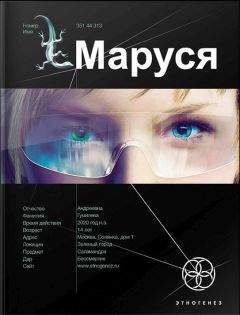На костин день рождения пришли Наташа со своим мужем и еще одна подружка Кости, интеллигентная и образованная девушка в очках, Нина. Костя все время говорил с ней по телефону, это продолжалось иногда часами. А она засыпала у телефона, и трубка выпадала у нее из рук. Одно время она встречалась с молодым человеком, который очень хорошо разбирался в психологии людей, он говорил, что он высший магистр всех темных сил. Потом они с Ниной поссорились из-за того, что ей на работе повысили зарплату, а ему не повысили, и он вопил, что Нина еще будет ползать перед ним на коленях. Когда же у него это не получилось, он стал биться в истерике и кричать, что Нина засадила его в банку, и все его сверхъестественные силы пропали. Потом, когда Костя попал в дурдом, Маруся ей звонила и рассказывала, а Нина вдруг вздохнула и сказала: «Какая у тебя насыщенная жизнь! Как я тебе завидую!» Маруся очень удивилась.
Пришла Смотрова и ее друг Ленчик. Еще пришла фиктивная жена Вадика, благодаря которой он прописался в Ленинграде, потому что сам был из города Кириши, и его не брали в аспирантуру без ленинградской прописки. Жена эта тоже была не из Ленинграда, а откуда-то с Кавказа, ее отец, очень богатый художник, заплатил восемь тысяч, и она сначала фиктивным браком сочеталась с каким-то художником из Ленинграда, а потом уже с ним развелась и вышла замуж за Вадика. Она все время всем жаловалась, что у нее не может быть детей, потому что у нее что-то там не в порядке по части гинекологии и даже всхлипывала при этом, а Вадик ее жалел.
Все выпили. Начали с водки, потому что на этом настаивала алкоголическая поклонница. Она вся тряслась от нетерпения, а потом стала гладить Костю по голове и говорить, что у него платиновая головка, что у него голубые глазки, что он такой красавец и все пыталась его поцеловать, а Костя морщился и отворачивался. Маруся пошла плясать с Вадиком, сзади за Вадика цеплялась его фиктивная жена, и он умудрялся целоваться и с Марусей, и с ней. Интеллигентная приятельница Кости визжала где-то в углу, а потом тоже повисла на Вадике. Вадик удовлетворенно похохатывал и обнимал всех троих девушек. Маруся заметила, что Кости за столом уже не было и слышала, как хлопнула входная дверь. Он уже давно сидел очень мрачный. Никто, кроме нее, не заметил, что Костя ушел, веселье продолжалось.
Маруся вышла в коридор, и вдруг на нее обрушился страшный удар, прямо в глаз. Маруся завопила и зарыдала, это был Костя, он незаметно вернулся и теперь стоял в углу, бледный и злой. Он размахнулся и ударил Марусю еще раз, изо всех сил. Маруся завизжала и завопила еще громче. Она подумала, что Костя снова рехнулся и сейчас ее задушит, а он, действительно, прошипел, что убьет ее. Марусины вопли никто не слышал, в комнате гремела музыка, раздавались визг и хохот. Костя еще раз дал Марусе в глаз и выскочил из квартиры на лестницу. Марусе уже не хотелось веселиться, она ушла в ванную и там рыдала, потом заснула на полу. Утром, когда она вышла, она увидела, что Костя сидит на диване, а в другом углу сидит Вадик и насвистывает песенку. У Кости под глазами были черные круги, он, наверное, не спал всю ночь. Маруся посмотрела на себя в зеркало и ужаснулась — у нее весь глаз заплыл желтым, фиолетовым и даже черным, совсем как у Тани, подруги того грузина с улицы Костюшко. Она вошла в комнату и тоже села на диван, подальше от Кости. Тут они с Вадиком посмотрели друг на друга и расхохотались. Костя же вскочил с дивана и включил магнитофон, заиграла песня «Я жиган ростовский», под которую вчера все так весело и безмятежно танцевали. Вадик опять стал весело притоптывать ногой и подпевать. Когда песня кончилась, Костя перекрутил и поставил ее с самого начала, его глаза сверкали, зрачки были сильно расширены. Марусе стало страшно и хотелось, чтобы он поскорее ушел, но он не уходил, а все ставил и ставил эту песню про жигана.
Через день его забрали в дурдом.
x x x
«Все-таки, у Вени уже старческий маразм. Он так ходит и ручки держит, как какое-то животное. Бывают такие животные, кролики или суслики, и они так держат лапки. И он все время такой согнутый, и ручки у него вот так. Мне мой знакомый Пусик рассказывал, что видел его в „Октябрьском“. На нем был замечательный, дивной красоты фирменный костюм, он шел, весь согнутый и загребал ногами, а ручки он держал так, и в одной у него висела программка, и каждый, посмотрев на него, мог сказать: „Вот идет старый педераст!“ А походка у него такая, именно педерастическая. Он все мне не может простить, что Эдвин ему не вернул тысячу марок, ну а я-то здесь при чем? Пусть он с ним и разбирается. Он говорит, что я его на каждом углу говном поливаю. Это он меня, скорее, поливает, мне столько уже рассказывали. Мне даже и звонить ему не хочется, только настроение портить. Оно у меня и так дерьмовое стадо, как я приехал сюда из Западного Берлина, как посмотрел на наши улицы, какая здесь грязь! А какие у всех рожи! Я понял, что мы все живем в огромной психбольнице. Когда я посмотрел на людей на улице — у всех красные возбужденные лица, блестящие глаза, каждый готов тебя вдруг ударить, или сам ждет удара палкой. Настроение может каждую минуту измениться. Взгляды у всех ненормальные, сумасшедшие, так и сверлят тебя, так и лезут. Все носятся с огромными мешками и куда-то торопятся, толкаются.
В Западном Берлине не так. Я жил там целых семь месяцев, я уж могу судить. Там все вежливые, на улицах чистота и дома тоже, там нужно драить все до блеска. Раньше я думал, что у меня в комнате чисто, а теперь вижу, что это настоящий свинарник. Мы здесь и не замечаем, что живем как свиньи.
Кем я только не работал: уборщицей, мыл окна, красил стены. Прямо как Горький в людях. Это были мои университеты.
Я работал там продавцом в большом магазине „Sir“. Это очень старая фирма, она была еще до всех войн и всех революций. Вся мебель там старинная, чуть ли не XV века. А обыкновенное мусорное ведро, в которое бросают бумажки, совершенно неподъемное, из бронзы, по-моему. Продавец целый день должен стоять, и спина у него должна быть прямая. Голову надо мыть каждый день, чтобы у тебя обязательно были выспавшиеся глаза и свежее лицо. Все продавцы там одеты в одежду, которая продается в этом магазине. Мне ее тоже давали, но купить я ее не мог, и перед уходом вешал ее там на вешалку, а утром опять надевал. Туда приезжали покупатели на „БМВ“ и „Роллс-Ройсах“, а я должен был им все время улыбаться и кланяться. Нужно было рассыпаться перед ними, чтобы заставить их открыть кошелек. Их поили кофе и шампанским и все бесплатно. Он выбирает себе тряпку, а ты его спрашиваешь: „Не хотите ли вы пить? Не хотите ли вы ссать?“
Хозяину магазина двадцать шесть лет. Магазин ему мама подарила. У мамы пять таких магазинов, и один она подарила сыну. Сын сам не очень, такой черный, на еврея похож. Довольно страшный.
Там у них все по часам. Каждое утро я знал, что на этом углу обязательно увижу старого хрыча с собачкой. Значит, уже полвосьмого. А если я иду, и этот хрен с собачкой уже завернул за угол, значит, я опаздываю на работу.
Одно время я работал в продовольственном магазине, который открывался в шесть утра, и мне нужно было вставать в полпятого, чтобы приходить вовремя. Я стоял там за прилавком и продавал всякую мелочь. Но считать я должен был в уме и очень быстро, когда я принес калькулятор, хозяин мне сказал: „Нельзя!“ Почему — непонятно! Я должен был считать только в уме. А попробуй сосчитай, я и по-русски-то в шесть утра не очень сосчитаю. Я там долго не выдержал и ушел.
Там всем покупателям надо вежливо улыбаться и говорить: „Гутен морген!“ Он может вообще от тебя рожу свою отвернуть, но ты все равно должен улыбаться. Неважно, какое у тебя настроение, всем на тебя насрать.
Еще гудроны теперь привалили, и сбили все расценки. Раньше за работу платили двенадцать марок в час, а теперь — пять, шесть. Там их не любят, даже машины их поджигают. У них машины — такие уродливые пластмассовые коробочки, и они жутко трещат и воняют. Их сразу можно отличить.
Я там познакомился с одним мужиком, и мы жили вместе. Но за квартиру мы должны были платить пополам, и за жратву тоже. На содержание там тебя никто не возьмет. Там совершенно все по-другому, там даже громко говорить не принято, это считается грубым. А здесь, конечно, ужасно, но зато здесь я могу читать вывески на русском языке, могу звонить Вене и Марусику и разговаривать с ними по телефону. И я не должен каркать по-немецки. Я ходил там в Фольксшулс и платил шестьдесят марок в месяц. Это самая дешевая школа, где можно выучить язык.
Вот здесь мне мама купила бутылочку сока, и я сижу и пью его! Всего шестьдесят копеек бутылка! А там такой сок стоит три марки. А хлеб у нас стоит десять копеек. А там — марки полторы, не меньше. Здесь я могу лежать, и пусть у меня вся раковина будет полна грязной посуды, пусть у меня окна год не мыты — насрать! А там ты должен постоянно что-то делать, мыть, чистить, драить, каждую половицу. И работать, работать. С утра я там работал в магазине два часа, потом шел убирать, потом три часа гладил рубашки. Вечером я просто падал. И я подумал, — зачем такая жизнь, все время до самой смерти пахать, и ведь ничего себе не накопишь, при всем желании. А здесь я даже не знаю, что мне на себя надеть. Я боюсь, что меня разденут прямо на улице. У меня просто нет таких вещей, в которых здесь можно выйти.