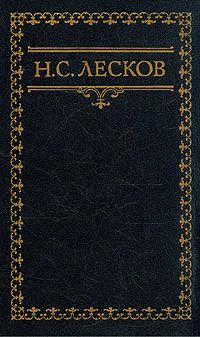В обхождении старик Альтанский был прост и удивительно открыт и приветлив. Не успела матушка меня ему представить, как он сию же минуту заговорил со мною точно со старинным другом, и притом с таким, который во всем был ему по всему равен. В разговоре, начатом непосредственно за его приходом и продолжавшемся около полутора часа, я не ощутил никакой разницы между его многоученостию и моим круглым невежеством. Он никого не оспаривал и не проводил никаких идей, но все, что при нем говорилось, – невольно как-то выравнивалось и округлялось по превосходной и совершеннейшей форме. О предстоящих моих с ним занятиях он не сказал ни слова – и даже когда матушка отрекомендовала меня, сказав:
– Вот ваш ученик.
Он, ласково пожав мне руку, тихо ответил:
– Друг, а не ученик.
Затем весь остальной разговор, сверх всякого моего ожидания, шел о предметах, о которых я не имел тогда никакого понятия; но это Альтанского, по-видимому, нисколько не смущало. Он говорил с матушкою о правительстве, к чему начальный повод дало мое исключение. В словах матушки я успел уловить в этом разговоре немало желчной иронии, с которой она отзывалась о правительственной системе того времени, а Иван Иванович, точно Тацит, облегчал ее суждения.
Много лет прошло с тех пор, как я полуребенком слышал эту первую политическую беседу, и я бы, кажется, легко мог про нее позабыть, – но вещее пророчество ее, так поразительно сбывшееся на моем веку, не обмануло и мою голову – и тогда-то, при тягостнейших обстоятельствах моей жизни, я вспомнил слова Альтанского, и как еще вспомнил!
Уходя домой, Альтанские упросили матушку дать мне два дня льготы от учения, а с меня взяли слово завтра утром прийти к ним. Матушка согласилась и, проводив их, спросила меня:
– Мой сын! Ты, кажется, куришь?
Я сконфузился и потупил глаза.
– К чему это так рано? – продолжала матушка, – я не думаю, чтобы эта бездельная привычка портить воздух, необходимый для нашего дыхания, могла приносить очень много удовольствия; но если уже ты хочешь курить, то, пожалуйста, не скрывайся и кури при мне. Это по крайней мере не будет тебя приучать иметь от матери тайны.
«Ужасная вещь! – думал я, – бедная матушка и в помышлении не содержит, какие я имею от нее тайности».
Я чувствовал порядочную усталость, но, улегшись в постель, не мог уснуть и все обдумывал какой-нибудь план, как бы загарантировать себя от получения ответа на мое послание в Тверь. Я придумал идти завтра на почту и подкупить почталиона, чтобы, в случае получения письма на мое имя, он не приносил его мне домой, а оставил у себя, пока я не приду за ним. Это меня очень успокоило – и я уже хотел повернуться к стене и заснуть, как вдруг в это время заметил, что свет в матушкиной комнате еще не погас. Сначала мне показалось, что это горит лампада, но, привстав и поглядев в дверь, я увидал, что то горела под абажуром свеча, перед которою матушка сидела за столиком, как была одетая днем, и писала. Прошел час, огонь не гас, и писание матери не прекращалось. Теперь, насторожив ухо, я даже слышал, как быстро скрипело в ее руке перо, – и, по непонятному предчувствию, это позднее писание получило в моих глазах какое-то особенное, важное значение. Я был убежден, что она пишет что-нибудь касающееся до меня; но что это могло быть такое и к кому она могла писать? Размышляя об этом и не придя ни к какому выводу, я заснул все при том же свете, а утром, когда матушка, напившись чаю, посоветовала мне сходить засвидетельствовать свое почтение Альтанскому, я получил от нее довольно тяжелый запечатанный конверт, с тем чтобы я зашел и отдал его на почту.
Поручение это было мне очень кстати, потому что я, как выше сказано, намерен был обделать на почте свое собственное дело; но мне, однако, это не удалось, потому что, зайдя по дороге к Альтанским на почту, я на самом крыльце почтового дома столкнулся с Харитиною Альтанской. Она тоже пришла сюда отправить письмо, которое мне очень хотелось видеть, для того чтобы узнать, кому оно посылается. По тем же предчувствиям мне казалось, что письмо, которое было теперь в руках Альтанской, содержало развязку ее тайны, как письмо матери хранило другие тайны, – и я, вынув из кармана матушкино письмо, прежде чем отдать его приемщику, прочел: «Филиппу Кольбергу в Петербург».
Что необыкновенного можно найти в таком простом имени, как «Филиппу Кольбергу в Петербург», где такое множество всяких бергов?!– но вы не можете себе представить, как меня поразило это имя и как оно мне понравилось. Читая впоследствии письмо Гейне к автору Лалла Рук, где поэт говорит, что, не зная самого сочинения, готов признать его превосходным, потому что у него такое прекрасное название, – я вспомнил, что то же самое было со мною, когда я в первый раз узнал сладостное имя Филиппа Кольберга. Кто мог быть этот человек, которому не ставят на письме никакого титула, а просто пишут одно его короткое имя: «Филипп Кольберг», тогда как всякому человеку прибавляется хоть «благородие» или хоть «милостивое государство»? Неужто он не имеет никакого права даже на самый скромнейший из них? Неужто он просто какой-нибудь ремесленник? Но не может быть, чтобы мать моя писала такие большие письма какому-то простому ремесленнику, и притом… и притом я был уверен, что имя «Филипп Кольберг» не может принадлежать человеку малообразованному. Я получил неодолимую и притом чуждую всяких сомнений веру, что человек, носящий это имя, должен быть какой-то превосходнейший человек, которому нет никого подобного на свете.
Но зато эти размышления над письмом, а частию и присутствие здесь девицы Альтанской было причиною, что я не успел не только переговорить с почтальоном насчет ожидаемого мною ответа на мое послание в Тверь, а даже совсем позабыл об этом неприятном обстоятельстве и не тревожился им, пока оно дало мне себя почувствовать.
Всего более в эту пору меня занимало, что я по глубокому и, как после оказалось, совершенно безошибочному предчувствию попал в самый центр сокровеннейших тайн двух милых мне женщин, из которых притом одна была моя мать.
Правда, что вместе с этим открытием (предчувствия мои я могу считать и не предчувствиями, а проницательностию, и потому выводы этой проницательности принимать за открытия) – и этим именно открытием я наносил своему сердцу небольшую рану, потому что после вчерашнего вечернего созерцания Харитины Альтанской я уже снова начинал чувствовать, что во мне зашевелилось нечто подобное тем возвышенным, конечно любовным, тревогам, какие я испытал в Твери. Теперь, когда обнаружилось, что на свете несомненно существует кто-то, которому она пишет и притом сама собственноручно отправляет на почту свои письма, – я видел необходимость переменить позицию и уж строго держаться роли друга, чего мне, признаться сказать, не особенно хотелось, так как Харита была не то что тверская барышня: той было тридцать лет, и она приходилась наполовину меня старше, между тем как этой шел девятнадцатый год, и, стало быть, я был моложе ее только тремя годами. Но, однако, я утешался тем, что буду хранить ее тайну.
Что же относится до тайны матери, то тут я предчувствовал одно, что тут пылает какая-то купина, пламень которой должен быть для меня свят, и сказал своему пытливому уму: «Не касайся семо».
Все это я обдумал, идучи рядом с Альтанской, которая, овладев мною, вела к отцу. Мы шли с нею в полном молчании и не мешали друг другу. Это был для меня первый опыт приятного молчания, и он мне чрезвычайно удался и полюбился.
Они жили в небольшом сереньком домике с стеклянною галереею, в конце которой была дверь с небольшою медною дощечкою, на которой вместо имени профессора значилась следующая странная латинская надпись: «Nisi ter pulsata aperietur tibi porta, honestus abeas», то есть: «Если по троекратном стуке дверь тебе не отворится, то знай честь и отходи прочь».
Харитина постучала трижды в эту дверь, она нам отворилась, и мы вошли в очень скромное помещение.
Старый профессор собирался на лекцию, но встретил меня очень ласково, наскоро закусил с нами и ушел, поручив меня попечениям дочери; но бедной девушке было, кажется, совсем не до забот обо мне. Она, видимо, перемогалась и старалась улыбаться отцу и мне, но от меня не скрылось, что у нее подергивало губы – и лицо ее то покрывалось смертною бледностию, то по нем выступали вымученные сине-розовые пятна.
Простодушный младенческий взгляд старика, кажется, ничего этого не замечал в то время, когда он навязывал меня на руки дочери, но я был гораздо прозорливее и практичнее и поспешил как можно скорее оставить ее в покое.
Не помню, какой я именно выбрал предлог для того, чтобы ей откланяться, – но она сделала эту выдумку совершенно излишнею. Вместо ответа на мое прощанье она взглянула на меня полными слез глазами и, крепко стиснув мою руку, произнесла по-малороссийски: