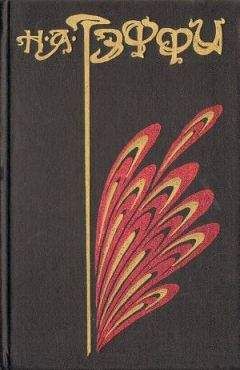Острая болезнь
Он был до такой степени похож на барана, что даже собаки лаяли на него как-то особенно, не так, как лают на человека — со страхом и озлоблением, — а тихо, лениво потявкивали:
— Гав-гав!
— Знаем, мол, сами, что ты баран, существо безобидное, да уж обязанность наша такая, нужно порядок блюсти.
Люди относились к нему добродушно. Люди любят баранов. И говорили с ним, будто тпрукали.
— Здравствуйте, Павел Павлыч! (Тпру-тпру!). Какой вы сегодня оживленный (ах, ты, бяшка-барашка!). Пойдем, погуляем вместе (тпру, глупый, не бойся, бяшенька!).
Он был всегда очень серьезен и говорил веши, чрезвычайно веско обоснованные.
— Вот вы сегодня надели пальто, вам будет теплее, — сообщал он, — а вчера вы были без пальто, и вам было холоднее.
Собеседник не мог ничего возразить, и Павел Павлыч гордо подымал свой крутой бараний лоб.
— Больные люди должны поправляться. А то что же хворать-то, — нехорошо.
— Полные не должны много есть. От еды полнеют.
И тут опять не поспоришь.
В немецком курортике, где Павел Павлыч поправлял свой желудок, маленький кружок русских больных относился к барану очень дружелюбно.
— Он, собственно говоря, очень милый, — говорили о нем. — Любезный и ни о ком плохо не отзывается.
Русский кружок, как всегда в курортах, часто менялся, — одни уезжали, другие приезжали, — но основное ядро составляли пять человек: две курсистки — толстая, с прической a la Клео де-Мерод, и тощая, совсем не причесанная, — два адвоката — Ротов и Бирбаум — и дама Анна Ивановна — не то капиталистка, не то анархистка, простая, веселая, с веснушками на руках.
И все пятеро дружили с бараном и находили его премилым.
Но вот однажды утром, после холодной ванны, Ротов сказал Бирбауму:
— Сегодня идем в горы?
— Конечно, как условились, в три часа. Не знаю только, сможет ли Павел Павлыч: он, кажется, занят.
И вдруг Ротов сказал удивительную, неслыханную вещь. Он сказал:
— А, собственно говоря, это к лучшему, если он не сможет.
Бирбаум посмотрел на товарища с недоумением.
— Как вы сказали?
— Да, знаете, что-то он мне на нервы действует. Болтает какую-то ерунду.
— Да что вы! Он такой серьезный, такой милый, у вас просто нервы не в порядке.
Ротов сконфузился.
— Да я ничего и не говорю, — он действительно очень милый. Кроме любезности, я ничего от него не видел. Итак, значит, идем в горы?
Павел Павлыч смог принять участие в прогулке. Шли бодро, весело болтали.
Только Ротов был как-то задумчив и то бежал впереди всех, то плелся сзади, молчаливый и безучастный.
Баран был в хорошем настроении.
— Под гору-то идти куда легче, чем на гору, — сообщал он всем по очереди.
— Идите, идите, Марья Петровна, — подбодрял он толстую курсистку в прическе a la Клео де-Мерод. — Кто хочет похудеть, тот должен много ходить. От сидячей жизни люди полнеют.
Никто не мог ничего возразить ему, и разговор мог бы навсегда оборваться, если бы Павел Павлыч оказался менее находчивым и оживленным. Но он так и сыпал:
— Только бы дождь не пошел, а то мы смокнем. Ужасно неприятно, когда, этак, дождик застигнет. И платье испортит, да и простудиться можно. В сыром платье очень легко схватить простуду. Что? Никак опять подъем? На гору-то, знаете, тяжело идти, а с горы — живо! С горы легко.
Бирбаум отстал немножко и шепнул уныло шагающему Ротову:
— А ведь он и правда какой-то утомительный. Хотя, в сущности, очень милый…
— Ну, конечно, очень милый, — кротко вздознув, согласился Ротов и вдруг весь вспыхнул и затряс кулаками.
— А черт бы его драл с его милостью! Всю прогулку испортил. Ведь я из-за него не вижу ничего. Кругом горы, долины, красота, а я иду и все время мысленно повторяю: «Чтоб ты сдох! Чтоб ты сдох! Чтоб ты сдох!». Нарочно подальше держусь, чтоб не выругаться.
— Ну, Бог с вами! — успокаивал его Бирбаум. — Он, в сущности, такой милый, нехорошо, если заметит.
— А пусть его замечает. Чтоб он сдох!
Но через несколько минут Ротов, видимо, успокоенный, присоединился к обществу, стал болтать, острить и даже подпирал барана, когда тот устал лезть на гору. Щеки у Ротова порозовели, и он снова имел вид здорового и веселого человека.
Через четверть часа Бирбаум отозвал его и, крепко взяв под руку, зашептал смущенно и испуганно:
— А, знаете, вы правы. Он, собственно говоря, очень мил, но трудно с ним как-то… Он вдруг говорит — вы слышали? — «Седые волосы чаще бывают у стариков, чем у молодых». А? Слышали вы это?
Бирбаум вдруг весь задрожал, злобно оскалился и заметил через судорожно стиснутые зубы:
— Да как он смеет это говорить, идиот проклятый! Что он нас всех дураками считает, что ли? Ведь это же нахальство! Это — издевательство над людьми! Его проучить надо!
Ротов, испуганный и удивленный, не знал, что делать.
— Да полно, голубчик! Ну, что за вздор. Ведь он, в сущности, такой милый, обязательный, любезный… Ну, конечно, он немножко того… доктринер. Ну, успокойтесь! Право, неловко.
Бирбаум вздохнул глубоким, вздрагивающим вздохом, как дети после плача, и притих.
Через десять минут он уже принимал участие в общем разговоре и ласково хлопал барана по плечу.
На другое утро Ротов встретил Анну Ивановну. Она издали махала ему своим красным зонтиком и кричала:
— Идемте сегодня опять в горы? А? Чего тут зря болтаться. А?
Ротов задумался:
— Я, собственно говоря, занят, то есть я пойду с удовольствием, если… А Павел Павлыч идет?
— Должно быть. Как же без него-то?
— А, знаете, скажу вам откровенно — он мне надоел!
Анна Ивановна поджала губы, выпучила глаза и вдруг сочувственно покачала головой:
— А, знаете, голубчик, ведь и правда, он надоедливый. Тошный какой-то. Представьте себе, вчера, во время прогулки, вдруг говорит: «Красивые женщины всегда больше нравятся, чем некрасивые». Ну, не глупо ли? Ну кто, скажите, этого не знает? Подумаешь — новость сообщил. Это меня почему-то так обозлило, что прямо вспомнить не могу.
Она стукнула зонтиком, и на глазах у нее выступили слезы.
— Дурак поганый!
Ротов успокаивал ее, как мог, неубедительно и вяло.
— А, знаете, курсистка Вера уже давно не может его выносить. Она только показывать не хочет.
— Ну как же можно показывать! За что же обижать человека?
Прогулка состоялась без барана. Баран был занят. Но он невидимо присутствовал, потому что не проходило и десяти минут, как с кем-нибудь делался острый припадок ненависти. Первая начала курсистка Вера.
Длинная, тощая, она махала руками, визжала и чуть не скатилась с обрыва.
— Как он смеет говорить мне, что зубная боль неприятна! Как он смеет! Это — нахал, это — подлец! Это — зверь!
Остальные хором успокаивали ее.
— Как не стыдно, он такой милый! Такой любезный!
Вторым был Бирбаум, третьей — Анна Ивановна, четвертой — два раза подряд толстая курсистка Марья Петровна. После нее схватило Ротова, потом снова Анну Ивановну, и опять перебрало всех по очереди.
Возвращаясь домой, все дали друг другу слово вести себя так, чтобы Павел Павлыч отнюдь не заметил этой горькой перемены в отношении к нему.
— За что же обижать человека? Он такой милый… такой услужливый.
На следующий день барану объявили, что без него прогулка ни за что не состоится. Баран, давно сознававший себя душой общества, не удивился, поломался немножко и милостиво согласился. Но вечером идти вместе в кафе почему-то отказался.
— Господи! Он, кажется, все понял! — в отчаянии твердила Анна Ивановна. — Ведь это ужасно! За что? За что? Нужно быть с ним по любезнее. Я завтра пошлю ему букет роз.
— Господь с вами, Анна Ивановна, но ведь это неловко! Посылать мужчине цветы!
— Ну, чем же он виноват, что он — мужчина? Вы вечно так! Он такой милый, и это прямо грешно так относиться к человеку! Стыдно! Стыдно! — кричала она на Ротова и вдруг забилась в остром припадке:
— Он вчера сказал, что на даче летом хорошо, а зимой плохо, потому что холодно. Я не могу этого больше выносить! Я сегодня же уеду!
Еле ее успокоили. Но цветы барану она все-таки послала и даже после обеда играла с ним в шахматы, а все кругом сидели и ласково улыбались. Только изредка кто-нибудь подхватывал соседа под руку, увлекал в другую комнату, и все общество вздрагивало, прислушиваясь к глухим подавленным воплям, доносившимся через запертую дверь.
Баран, видя общее исключительное к себе внимание, стал немножко зазнаваться. Подсмеивался над толстой курсисткой, игриво подталкивал Анну Ивановну и говорил с Бирбаумом и Ротовым не иначе, как презрительно прищурив глаза, и не упускал при случае лягнуть их копытом.
— Это у вас что на голове? Луна? — спрашивал он лысого Бирбаума.