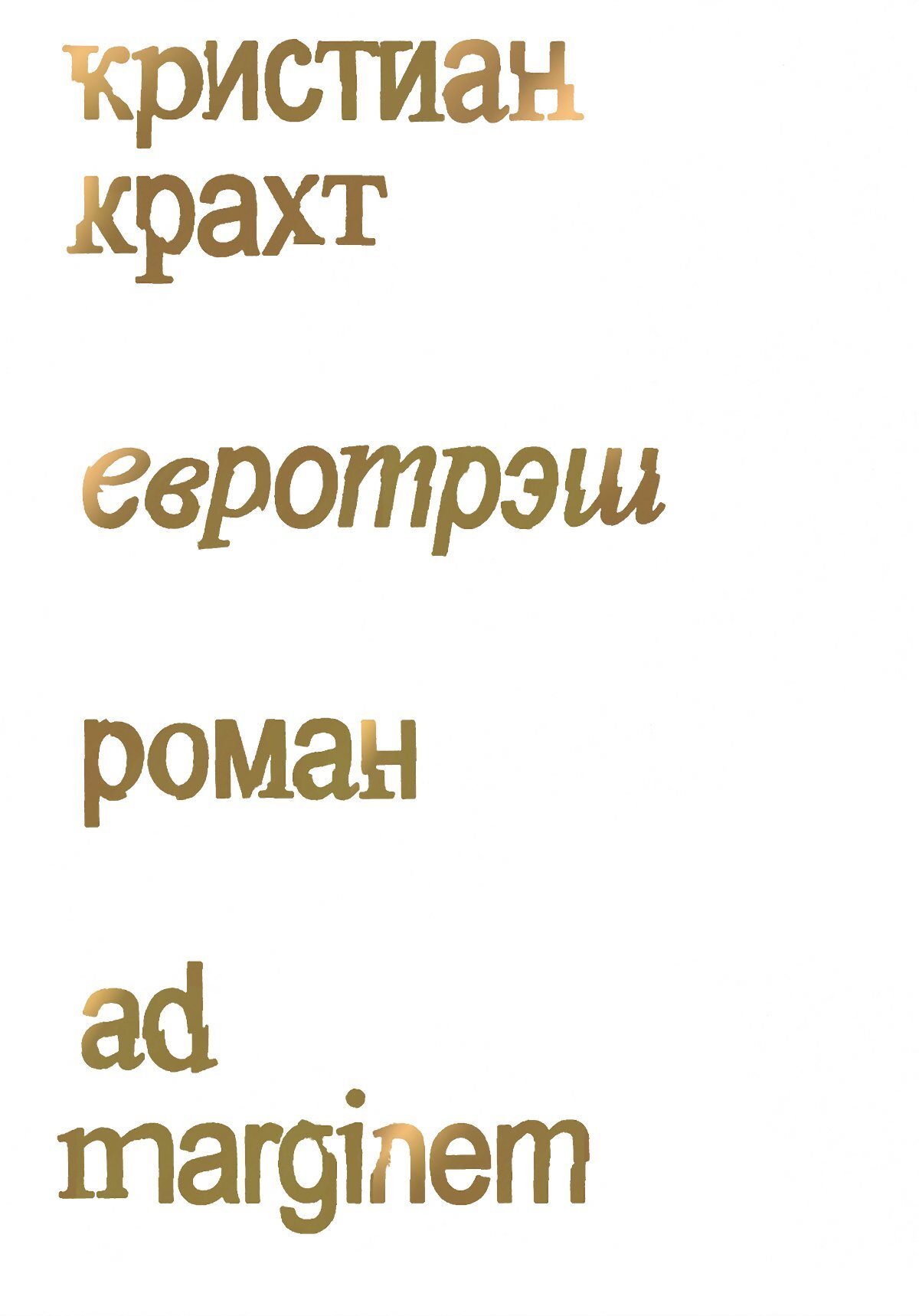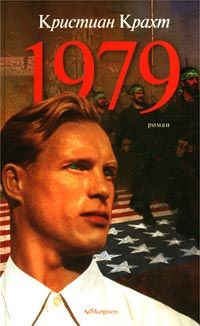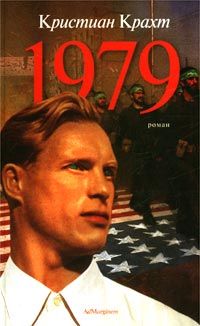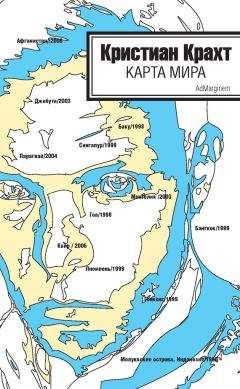Труп А Сама лежал на берегу неподалеку. На Ховике есть скрытый источник пресной воды, но они его не нашли.
– Ужасно грустно, с тропическим ливнем с этим.
– Правда ведь?
– Хорошая история.
Она встала, мы вместе привели в порядок ее волосы, она надела белую водолазку и костюм, открытые туфли на опухшие со сна ноги, простую ниточку жемчуга, и мы пошли ужинать, медленно, без ролятора. Нам накрыли столик в столовой: бумажная скатерть в синюю клетку, белые тарелки, стаканы и бумажные салфетки. На столике горела свеча, и мать этому очень обрадовалась.
Полноватая местная уроженка в фартуке со Снупи и Вудстоком принесла из кухни миски и поставила на стол. На ужин был гуляш из говядины с картофелем, на закуску – зеленый салат с ломтиками бледно-розовой ветчины. Еда здесь была отнюдь не вегетарианская, а совсем даже наоборот.
– Я всё еще не представился, – сказал, входя, давешний блондин. Его редкие волосы были теперь зачесаны назад и гладко прилизаны, на нем была красная бархатная накидка, во лбу индийское бинди, а внизу по-прежнему джинсы и горные ботинки.
– Я Вас тоже первый раз вижу, – сказала мать.
– Разрешите присесть за ваш столик?
– Прошу. Извините, я еще немного не в себе после дневного сна.
– Ничего страшного, мадам. Я уже успел побеседовать с вашим сыном и объяснить ему, каких принципов придерживался наш основатель.
– Прекрасно. Владелец наверняка принадлежит к старинной династии швейцарских отельеров.
Мне всё это было крайне неприятно. Мать ни в коем случае не должна была догадаться, что тут никакой не отель. Тут мне вспомнилось, что владелец гостиницы «Баур-о-Лак» в Цюрихе был наш однофамилец. Однажды, мне было лет двадцать, мы ужинали там, и моему отцу показалось, что официанты не проявили к нему должного почтения, несмотря на серо-голубой костюм от Davies & Son и очень узкий галстук в красно-синюю полоску; поэтому после ужина, когда ему принесли счет, он большими печатными буквами написал внизу КРАХТ. Свое имя, стало быть, и в то же время имя владельца заведения. Он надеялся, что при виде этих букв персонал охватит священный трепет, и он, мой отец, покидая гостиницу через вращающуюся дверь, получит еще больше подобострастия на свою ловко сложенную в горсти двадцатифранковую купюру.
– Времена нынче трудные, мадам. К нам приезжает сейчас куда меньше людей, чем десять лет назад. Месье Рике Герд Хамер, как бы это выразиться, впал в немилость.
– Да-да, Хамеры, как же, знаю, – сказала мать. – Старая династия отельеров. Тяжелые времена. Мы с сыном как раз думали подарить вам денег, раз дела у вас так плохо идут.
– Спасибо большое, но в этом нет необходимости, – откликнулся он. – А какую сумму вы имели в виду?
– Погодите, сейчас соображу. Мы сняли в банке шестьсот франков, и заплатили таксисту две тысячи. Или мы дали ему шестьсот тысяч франков? Нет, такого не может быть. Я совсем разучилась считать. Ненавижу старость. Ах, как я ее ненавижу! А что ты скажешь? – она посмотрела на меня.
– Ммм…
– Вообще-то я хотела приехать на мерседесе, но он остался в гараже. Мой сын, вот этот, что здесь сидит, спрятал ключи от машины, он считает, что мне больше нельзя садиться за руль.
– Что ж, – сказал наш собеседник, – гораздо приятнее ехать, когда за рулем кто-то другой.
Я обдумывал про себя, не сказать ли ей прямо сейчас, здесь, что ее мерседес навеки переместился в Буковину. Нет, не стоит.
– То есть деньги у вас с собой? – спросил он.
– Ну конечно! Правда, Кристиан?
– Кристиан? – блондин нахмурил лоб. – Так вас зовут не Даниэль? Быть не может! Вы, значит, не Даниэль Кельман?
– А вы и ваша коммуна, значит, не вегетарианцы?
Неожиданная находчивость с моей стороны. Обычно остроумные реплики приходят мне в голову лишь много часов спустя. Нужно как-то выпутываться, подумал я, так дело не пойдет, мне нужно овладеть разговором – и подцепил картофелину на вилку.
– Знаете, что сказал Адорно о вегетарианстве?
– Нет, – ответил блондин.
– Аушвиц начинается на скотобойне.
– Кристиан. Нельзя ли поговорить о чем-нибудь другом.
– Мне бы хотелось, мама, чтобы ты на эту тему не высказывалась. Ни ты, ни твоя семья.
– Потому что твой дед был нацист, ты хочешь сказать?
– Еще какой! Вернейший из верных. До последнего вздоха. До могилы.
– Не перебивай меня.
– Это ты меня не перебивай. Ты понятия ни о чем не имеешь. Ты не имеешь права высказываться на эту тему. Ты не знаешь или не хочешь знать, что твой отец так никогда и не признал за собой ни малейшей вины, так же как и ты не желаешь признавать ни его, ни своей вины.
– Мне было семь лет, когда кончилась война.
– Но потом-то ты подросла и могла бы сказать своему отцу, что он преступник.
– Нет. Не могла. Зато я вышла замуж за твоего отца, – ответила она, поправляя волосы надо лбом. – С чего тебе вдруг вздумалось приставать ко мне со всем этим – сейчас, когда мне уже далеко за восемьдесят?
– Позвольте мне Вас ненадолго прервать…
– Нет, молодой человек, не позволю. Ни за что. Вам – ни за что. Мой муж всю жизнь был социал-демократом. Знаете, что сказал Мартин Вальзер? Аушвиц построила вся наша страна. Представляете? Вы отдаете себе отчет, что это значит?
– Ммм…
– Вы человеческую жестокость вообще видели?
– Вообще-то я…
– Не видели, я полагаю. Так что помалкивайте. И что Вы пристали к моему сыну, с какой стати его должны звать Даниэль? Даниэль? Какая наглость!
– Спасибо, мама.
– Долго ж ты собирался – но лучше поздно, чем никогда.
– Что ж, тогда я пожелаю вам всего хорошего.
Он улыбнулся нам – отнюдь не дружелюбно. Это была злобная улыбка, страшная, он выглядел как небритый желтозубый вампир, хуже того, он смотрел на нас, словно мы были уже удушенными проволокой кошками.
– Хорошего вам сна, мать и сын. Ведь сон – это роза, как говорят русские.
– И роза нежная жила не дольше розы – всего одну зарю [27], – отозвалась она. Бабах, вот оно, ее второе любимое присловье, это из Малерба, и, как всегда, подходит – ни убавить, ни прибавить. Мать и правда знала толк в своих французах.
– Гуляш у вас, кстати, из консервной банки, судя по вкусу, – крикнула мать ему вслед. Я ее не узнавал. Путешествие ей явно на пользу, подумал я. Может, нам и вправду стоит отправиться вместе в Африку.
Мы спали в одной комнате, но я не спал. Мать