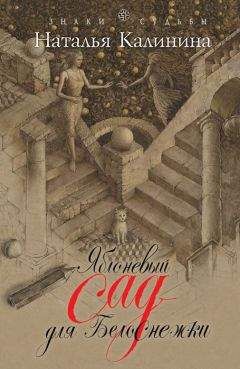- Качать надо, - рассудил Матвеич. - На подсолнухи ехать, не забывайте. Рамки оборвутся... Ясное дело, рази это мед? Курям на смех. Пальца не обмочишь. Дорого в этом году достается медок. Дорого. Утрачаемся на транспорт, а все без толку. Дождя нема. Обегаеть нас.
- На подсолнушках наверстаем, - не унывал Гордеич. - Моя жинка задание мне дала: умри, а восемь фляжек набей. Мне, братцы-кролики, совестно домой пустым ворочаться. Слово дал. Она мне голову загрызет, из хаты вытурит.
- Строгая у тебя жинка, - Матвеич обежал его насмешливым взглядом. Больше восьми накачаешь, не выгонить?
- С нашим удовольствием! Это ей праздник. Почище троицы.
- Все они за копейку удавятся. В кармане звенить - вокруг тебя на цыпочках ходють, будь ты рябой или косой. Увиваются, как кошки. Перестало звенеть - шипять, коготки выпускають.
Гордеич защищал жену:
- Моя не дюже шипит. Отходчивая.
- А почему отходить, не замечал? Пятачок опять зазвенел в кармане!
- Тебе все пятачок да пятачок. Свет на нем клином сошелся. Не в одном пятачке правда, ёк-макарёк!
- Ив нем.
Гордеич занервничал, и, видя это, Матвеич уступил, мягко, с усмешкою обмолвившись:
- Оно конечно, бывають и женщины разумницы.
Твоя Марья Гавриловна зря не нашумить. Выдержанная.
- С третьей жинкой мне повезло, - горделиво вознесся Гордеич. - Живу с Гавриловной, как у квочки под крылушком. Раньше, бывало, раздухарюсь, разгуляюсь - все деньги по ветру пущу. Одним днем жил. Гавриловна надоумила: так нельзя, нужно и на черный день приберегать. Сберкнижку завел. С зарплаты, с калыма - кап и кап в нее. Кап и кап... Глядишь, за годок что-то и набежит. Веселее на сердце.
- Ясное дело, веселее. Теперь грех не откладывать.
Соседи засмеють. У людей наросли большие вклады. Живуть на все сто, крюком их не зацепишь.
Тесть тыкал, тыкал вилкою в неподатливый редисовый кружок на дне тарелки, тучей хмурился и вдруг сорвался, громко и с возмущением заспорил:
- На все сто! Да разве это жизнь?! У таких посеред зимы снега не выпросишь. Ни себе гам, ни другому не дам. Умрут же. Что после них останется? Сберкнижка...
Родственнички быстро ее растранжирят, вдобавок еще передерутся, навек рассорятся. Пыль уляжется - и конец. Жил-был человек и пропал. Сгинул без следа.
Гордеич с Матвеичем как-то неловко и загадочно переглянулись, с выжиданием уставились на тестя, настроенного весьма жестко.
- Все мы сгинем без следа, что об этом толковать, - мягко обронил Матвеич и поправил дужки очков за ушами, из которых торчали пучки рыжеватых волос. - На то, Федорович, не наша воля. Придет час, и помрем. Никто не задержится на земле дольше, чем полагается ему.
- А я не помру!
Старики вновь мельком переглянулись, пожали плечами и посмотрели на тестя с некоторым сожалением, как на человека, лишившегося здравого смысла и не вполне нормального.
- Хо! Святой выискался! Раздувайте кадило... молитесь на него! Или ты, как Матвеич, перед сном маточное молочко пьешь?
Тесть важно сидел перед ними, расправив плечи и высоко держа голову, точно и впрямь обрел бессмертие и отныне вознамерился не покидать грешную землю с этой вечерней притихшей степью и просторным небом над нею, в котором одна за другою нарождались звезды.
- Не помру! - утверждал тесть с прояснившимся, одухотворенным лицом. После меня колхоз останется...
Дом культуры... дух! Обо мне еще вспомнят, не думайте.
Неправда! Все равно вспомнят.
- И пенсию тебе министерскую начислят. - Гордеич откровенно издевался. - Ох, Федорович! Пророк. Привык арапа заправлять, никак не отучишься... Да, ёк-макарёк!
Хрен старый! - с неожиданным озлоблением выпалил он. - Твой Дом культуры на курьих ножках завалят, а на том месте белокаменный дворец отгрохают. С колоннами. Люди будут на звезды летать, жик - и на Стожарах. О тебе ли им помнить, дурной, непутевый пасечник?!
- На звездах обживутся, а меня вспомнят добром, - упрямо твердил тесть. - Не может того быть, чтобы не вспомнили. Мы им жизнь наладили! Жалко, сам я не узнаю про это. Узнать бы! Из могилы бы высунуться да краем уха подслушать, как они о нас будут говорить.
- На что это вам, Федорович? - осторожно подкапывался Матвеич.
Лицо тестя сделалось мечтательным, по-детски трогательным.
- Хочется знать, правильно ли мы жили, вот зачем.
Кто из нас прав. Не лечь бы в землю сорной травой.
- Ты, Федорович, прав. Ты! - Нервничая, Гордеич шумно отхлебывал борщ. - И не заботься. Я тебе говорю: ты!
- А по мне, так после моей смерти все одно, как я жил, - сказал Матвеич. - Колоть не будеть, потому как я в бесчувственный прах распылюсь. За меня тогда нехай думаеть коза, которую выгонють пасть на мой бугорок.
Эх, Федорович! Живите, пока живется. Наслаждайтесь травкой, цветочками... всем, на что смотрите. Земля-то во-он какая! - Он обвел рукою возле себя и кивнул в степь. - Красивая! Кузнецы кують, огоньки моргають.
Тихо. Лишь бы китайцы на нас не напали. Надоело воевать. Дожить бы мирно век.
- Не нападут, - заверил его тесть. - Когда-нибудь раскусят перерожденцев.
- Рыба с головы гниеть. Схватятся, да поздно.
- Говорю тебе, верь! Народ не обманешь. Мы простому китайскому народу друзья: вон сколько помогали!
Это не забудется... И сила у нас великая, - после раздумья добавил тесть. - Не посмеют.
Любят старики за рюмкою вина потолковать на обширные темы: о смысле жизни, о войне и мире, о политике. Русские люди - прирожденные философы. И в этот вечер они завелись надолго. Тесть появился в будке в полночь: по радио передавали последние известия. У нас тоже висит на стене транзистор - подарок тестю в День Победы от рабочих тарной базы, где он начальствовал.
С глубоким уважением прослушав международные новости, он разделся и лег, в сумраке обратил ко мне лицо:
- Петр Алексеевич, не спишь? О чем думаешь?
- Так... Ни о чем.
- На твой взгляд, Латинская Америка двинется по нашему пути? Победят там коммунисты?
- Это зависит от многих условий. Трудно предугадать, когда это произойдет. Но должно произойти - по всем законам диалектики.
- Понимаю. Революции ускорять нельзя. Жалко!..
Сидит у меня одна, Петр Алексеевич, думка: дотянуть до этой победы. Боязно за Кубу. Как бы империалисты не насели на нее с четырех сторон. Это ж акулы кровожадные!.. Страна маленькая, с листок, а сердце за нее болит.
Как за свою.
Порассуждав об этом, мы помолчали.
- Не спишь? - опять кружит надо мною извинительный шепот тестя. Слыхал, Матвеич нам советует качать. Но мы подождем. Вдруг и правда поднесут. Он поверил, что я накачаю меньше. Пускай тешится! Еще увидим, кто кого общеголяет. У нас тоже есть соты с побелкой. Но я притворяюсь. Что вы, говорю, ребятушки! Куда мне до вас. У меня рамки черные. Смеются. Довольные.
Я никогда не лезу поперед батьки в пекло. Так и в колхозе было. Другие надают обещаний и трубят во все дудки.
А мы с парторгом берем умеренные обязательства (головастый был у меня парторг, Бойко Иван Тимофеевич!).
Не опозориться бы. Возьмем, а сами в уме настроены всех обогнать, особенно болтунов. И обгоняли! В лужу их не раз садили, аж брызги летели!.. Нанесет курочка яичек, тогда и подсчитаем сколько. А пока будем ее хорошенько кормить. По всем правилам рациона.
- Зачем вы их дразните?
- Да они ж отсталые! В другой раз не будут заноситься. Их надо, Петр Алексеевич, остегивать.
- Много Матвеич налил фляг?
- Он не говорит, а я не спрашиваю. На чужое рот не разеваю. Гордеич под большим секретом сказал: три.
Мало! Погода нас подводит. Дождику бы.
Утром Гордеич приготовился к качке. Пчела отклубилась, уже пора было начинать, а Матвеич все не показывался из своей будки. Спал, что ли? Гордеич звенел флягами, насвистывал, расхаживая у пасеки, но идти и открыто звать напарника не хотел: не позволяла гордость. Наконец терпение у него лопнуло, и он окликнул тестя:
- Федорович! Так вы не будете нонче качать?
- Не будем.
- Петро, иди подсоби мне! - крикнул он обрадованно. - А то Матвеич закопался в нору, как крот, и не вылазит. Вжарить бы ему горяченьких по мягкому месту.
Медогонку Гордеич поместил в пристройке. Под краном была яма, он опустил в нее флягу. Выбрав рамки из крайнего лежака, он ловко стряхнул с них пчел, побежал и задернул за собою брезентовый край. Немедля вооружившись остро отточенным с обеих сторон длинным ножом, Гордеич обмакнул его в воду и буквально в течение минуты распечатал соты, да так, что не порезал их глубоко, и воск, истекая медом, лег на дно эмалированного ведра. Рамки он тут же вставил в кассеты барабана.
- Видал? Вот так и действуй. Крути, Петро!
Я схватился за гладкую ручку привода, нажал - и ротор загудел, кассеты замелькали, понеслись внутри бака вокруг оси. Мед брызнул на стенки, густо окропил их и медленно, тягуче потек вниз, на выпуклое дно, Гордеич понаблюдал за моей работой, проверил, как я переставил на обратную сторону рамки, откачал, вынул две пустые, заложил в кассеты подготовленные мною, с медом, и выскочил наружу с бодрым напутствием: