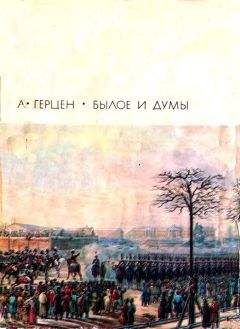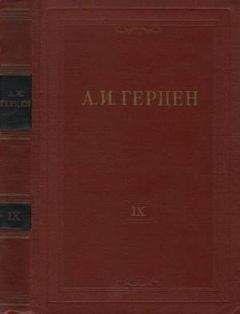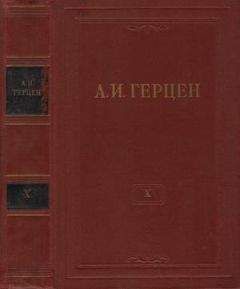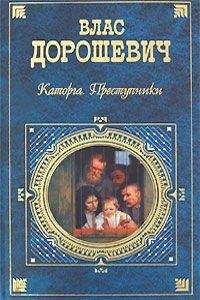Торжество происходило в Café Américain, наверху. Хотели в другом месте, но там тоже какое-то торжество происходило, — всё было занято. Председательствовала mademoiselle Фуфу и сказала премилую речь. Немножко странную, но ведь француженка многого в нашей русской жизни не понимает.
— Ami et cher papaschka![12] — так начала она свою речь. — Ваши труды в области кокоткознания у всех в памяти и не нуждаются в похвалах.
Вы принадлежите к числу тех избранных умов, которые могут заниматься несколькими предметами единовременно. Так, будучи директором горного департамента, вы, судя по вашим писаниям, более занимались изучением островов. Что касается ваших заслуг в области сравнительной кокотологии, то достаточно сказать, что с тех пор, как вы были так добры и указали, в каких именно ресторанах и в какие часы можно застать лучших кокоток, — с тех пор число русских посетителей там значительно увеличилось. За что мы и выражаем вам признательность от своего имени и от имени этих рестораторов. Да! Ami et cher papaschka, как зовём мы вас! Вы самоотверженно занимались своей публичной деятельностью, за что и потерпели гонение в отечестве. Но утешьтесь. Вы не были дипломатом, вы не устраивали франко-русского альянса, но устроили такую массу франко-русских альянсов, что и не снилось! Примите же от нас в воздаяние литературных заслуг ваших, — honoris causa — звание доктора кокотологии и присвоенную этому званию бутоньерку из разноцветных подвязок. Позвольте представить вам моих подруг!
Тут началось дефилирование. Сначала шли более, так сказать, современные особы, а потом двинулась «старая гвардия». Представляясь, они делали правой ногой на караул, — и чрезвычайно удобно, не надо было даже снимать цилиндр, чтобы раскланиваться: они сами сбивали цилиндр с головы ногой.
Вообще торжество было страшное. Не обошлось, конечно, и без неприятности.
Так, маленькая.
Когда мы выходили из кафе, на нас накинулась толпа проводников, — знаешь, вот тех, что по place de l’Opéra[13] шляются и к прохожим иностранцам пристают:
— Не желаете ли туда-то отправиться? Туда-то?
Кинулись — и прямо к К. А. Скальковскому.
— Как, — кричат, — вам, ваше превосходительство, не стыдно? У бедных людей хлеб отбиваете! Раньше мы русских господ по разным местам водили, а теперь все с вашими фельетонами ходят: «сами, говорят, найдём!» Нехорошо конкуренцию делать!
Но мы, конечно, не обратили внимания и пошли в гору, на Монмартр, — всё-таки он бывший директор горного департамента!
Так-то, душа Тряпичкин. Вот какие дела делаем. Собираюсь для пользы отечества адрес-календарь всех парижских кокоток составить, с указанием, в каких ресторанах бывают и prix-fix'ы.[14]
И вообрази, русские-то, хороши, не понимают. Встретил тут одного, рассказал проект, — говорит:
— Что ж вы такое? Международный «устроители знакомства» какой-то!
Я думаю, что он нигилист. Наверное, нигилист! Надо будет про него написать, что нигилист.
Твой друг Jean de-Хлестаков.
С подлинным верно.
«Le beau et celèbre»[15] г. Скальковский напечатал в свойственной ему газете корреспонденцию об открытии памятника Поль де Коку.
Г. Скальковский спешит давать материалы своему будущему биографу.
С очаровательной откровенностью артистки из «Альказара» он обнаруживает перед публикой свои интимнейшие подробности.
Он рассказывает характерные вещи.
Представьте себе, что когда г. Скальковский был ещё студентом, профессор, оказывается, кричал на него:
— Зарезал, разбойник!
Вон ещё когда!..
Г. Скальковский, по его словам, воспитан на Поль де Коке и счёл долгом присутствовать на открытии памятника писателю.
Это очень благородно с его стороны.
Г. Скальковский всегда был благородным человеком и знал, что такое уважение к мёртвым.
К тому же и картина: «Скальковский у памятника Поль де Кока» — недурной жанр.
Это стоит дон-Карлоса у гробницы Карла Великого.
Г. Скальковский описывает очень трогательно открытие памятника.
Но, к сожалению, пишет не всё.
Один мой парижский приятель описывает мне то, о чём умолчал даже г. Скальковский.
Финал торжества.
Речи были сказаны, памятник открыт. Присутствующие ушли на банкет по 6 франков.
Г. Скальковский остался у памятника один.
Воскрешая в душе своей пикантнейшие места из романов Поль де Кока.
Он любит поминать мёртвых.
В душе его воскресал «Le cocu»[16], всплывал «Le mauvais sujet»[17], проплывали «Магазинные барышни», «Молодая девушка с пятого этажа», «Девочка, которую долго считали за мальчика».
Так волновалась душа его.
Как вдруг памятник зашевелился.
Бронза стала тёплой, стала оживать, оживать.
В глазных впадинах затеплились весёлые и живые глаза.
Тёмный бронзовый загар сбежал со щёк, они стали бледными, слегка розовыми.
Губы раскрылись, грудь поднялась и вдохнула воздух.
Поль де Кок опёрся руками и с трудом, немножко кряхтя, немножко охая, вышел из пьедестала.
Перед изумлённым, испуганным г. Скальковским стоял Поль де Кок, старик Поль де Кок, с огромными седыми усами, в высоких смятых воротничках.
Стоял и улыбался.
— Votre excellence![18] — сказал Поль де Кок.
Г. Скальковский приосанился.
— Votre excellence, позвольте мне поблагодарить за ту честь, которую вы мне оказали, специально приехав на открытие моего памятника! — продолжал Поль де Кок. — Именно с вашей стороны меня особенно трогает такая честь.
— Oh, cher maitre[19], ради Бога, — смущённо пробормотал г. Скальковский, — я всегда был верен вашим заветам.
Но Поль де Кок остановил его мягким движением руки.
— Мне приятно видеть вас, как отцу своего сына. Кто присутствовал на открытии моего памятника из тех, кого я воспевал? Припомните, кто были моими созданиями? Гризетка, — их больше нет. Эта крошка, жившая на пятом этаже, которая требовала на ужин немножко хлеба и сыра и много шуток и смеха, — её нет больше!
— Хорошие были времена! — вздохнул г. Скальковский.
— Она не могла быть на моём торжестве. Она умерла! Мой любимый герой — скромный молодой человек, который не смеет признаться в любви и часами караулит на лестнице, пока пройдёт хорошенькая соседка, чтоб взглянуть ей в след и вздохнуть, — его тоже нет. Скромный молодой человек умер. Как это ужасно писателю переживать смерть своих героев. Это значит умирать во второй раз! Но не все из моих созданий умерли! Не все! Один из моих любимейших героев жив.
И голос Поль де Кока зазвучал громче и радостней.
— Если вы припомните, кроме гризетки и робкого юноши, — любимым типом, который я часто выводил, был старый порнограф. Старый порнограф, который не может видеть женской ножки без того, чтоб мысленно не взбежать по ней, как таракан, который только и делает, что раздевает в своих мыслях каждую встречную женщину, и затем слюнявыми губами рассказывает всем и каждому о «подробностях», которые он заметил или о которых догадывается своим старческим воображением. О, excellence! Я читал то, что вы писали про актрис, про кокоток, про женщин вообще.
И Поль де Кок мягким движением руки остановил готовый вырваться у г. Скальковского поток благодарностей за лестное внимание.
— Этот старый порнограф, — я любил его выводить на посмешище. Я ставил его в позорнейшие положения. Я издевался над ним. Он всегда у меня в конце концов оказывался ничтожным, жалким, презренным, противным и гадким. Excellence, позвольте мне поблагодарить за то, что вы явились на открытие моего памятника!
И, смахнув набежавшую на старые глаза слезу, Поль де Кок, кряхтя и охая, взобрался на свой пьедестал и медленно вошёл в него.
Тёплое живое тело похолодело, застыло, стало бронзовым.
Лицо замерло.
Как догоревшие лампады, погасли глаза
Чёрные впадины смотрели сурово и мрачно.
А г. Скальковский с «Le cocu» в душе долго ещё стоял перед бюстом писателя, великого и любимого.
Стоял и сказал:
— Первой книгой, которую я прочёл, была «Девочка, которую долго считали за мальчика». Я всю жизнь был тоже «девочкой, которую принимали за мальчика», — поль-де-коковским героем, которого долго принимали за государственного человека.
«Собственный корреспондент от Maxim’а» повернулся и медленно пошёл к экипажу.
— К Maxim’у, иде же многие Скальковские упокоиваются!
И сел там за свободным столиком писать корреспонденцию:
— Maxim. Такого-то сентября.
Умирая в поезде от скуки, я стоял на одной из больших станций, около «газетного буфета».
— Марк Твен есть? Джерома тоже нет?!
Газетчик тоном приказчика в гастрономическом магазине нахваливал мне свой товар.