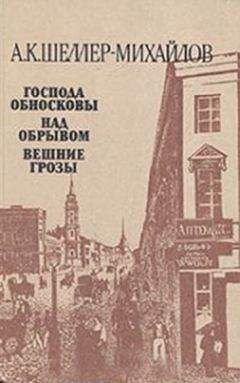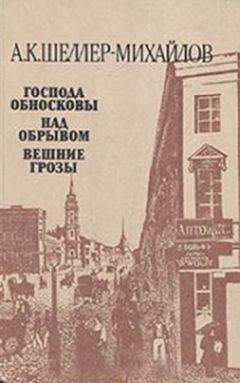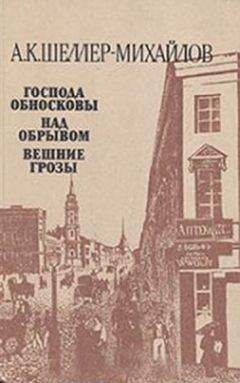— Веди, веди ее сюда! — ив изнеможении опустился на подушку.
Сын исчез. Обнимая мать и целуя ей то руку, то щеку, вел он ее в кабинет отца, спрашивал ее о здоровье, объяснял, что он кончил экзамены, говорил, что отцу лучше. Это был какой-то хаос отрывочных мыслей, восклицаний, торопливого выражения заботливости, радости и счастья. Они вошли в комнату Евграфа Александровича. При их неожиданном появлении из груди двух сестер и Марьи Ивановны вырвалось только единодушное:
— Ах!
В этом восклицании послышался ужас. Три женщины вскочили с мест и, как бы окаменев, устремили неподвижные глаза на неожиданную гостью. Она не обратила внимания на эту немую, но красноречивую сцену.
— Милый, милый! — целовала она через минуту больного человека. — Не стыдно ли хворать и не написать даже о болезни?
— Да я… я поправляюсь, — шептал больной. — Я совсем здоров… слабость только… Право, только слабость… Ну, а что дети?.. Таня выросла, поправилась?.. Любимая, дай руку… Вот так… Да тебе неловко, может быть?.. Ну, вот я теперь и дома, и здоров…
— Братец, не говорите так много, вам вредно, — подбежала Ольга Александровна с умоляющим взглядом.
Она уже вышла из оцепенения и усиленно моргала глазами.
— Оставьте нас одних с женою, — обернул больной голову к сестрам. — Слышите?
В его голосе звучали строгость и решительность. В присутствии этой любимой женщины он постоянно овладевал собою и был тверд.
— Братец, вам может что-нибудь понадобиться, — начали сестры.
— Оставьте меня с женою…. оставьте меня с сыном!.. — настойчиво повторил больной.
— Но они не знают… если что-нибудь понадобится, — попробовали возразить сестры, указав на Стефанию Высоцкую.
— Я вам выйти приказываю, — почти крикнул больной.
Сестры и мать Обноскова вышли с глубокими вздохами и покорностью угнетенных мучениц. В комнате больного начались живые разговоры, но он сам заметно ослабел после необычайного напряжения сил. Он больше слушал, чем говорил, и только улыбался, да притягивал к губам руку жены.
— Вот мы и в своей семье, дома, — рассмеялся он через несколько времени детским смехом, но улыбка его вышла какая-то странная, губы как-то сухо растянулись около зубов. — Бог с ними… сестрами… Не обращайте на них внимания… На случай смерти…
— Не станем, милый, говорить о смерти, теперь жить надо, — прервала его жена.
— Жить надо… жить надо! — машинально повторил больной. — Я и жи-ву… жи-ву вполне…
Он помолчал довольно долгое время, находясь в забытье и слегка как бы бессознательно покашливая…
— Вот жена… вот сын… благослови вас бо-г!.. — голос больного был тверд и ясен, но слова выходили из груди с расстановкою, медленно. В звуках было что-то сухое, резкое. Лицо его сохраняло еще выражение счастия и спокойствия, но приняло какой-то матовый, землянистый оттенок. В горле слышалась легкая хрипота, и глаза неподвижно глядели куда-то вдаль, точно им не составляла преграды противоположная стена. Через несколько минут грудь больного высоко приподнялась и, сделав гримасу верхней губой как бы от непосильного нарряжения, он вытянулся, словно желая поправиться и принять более удобное положение. А его глаза все по-прежнему продолжали смотреть куда-то в неизвестную даль. Мать и сын переглянулись в испуге. Сын чувствовал, как начинала холодеть в его руке рука отца. Мать сделала движение; сын приложил палец к своим губам и тихо прошептал:
— Тсс!
В комнате можно было расслышать малейший шум. Тишина была полная. Опустив на грудь голову, сидела на постели стройная, еще прекрасная женщина с неподвижным, полным скорби лицом. Около нее стоял с поникшей головой задумавшийся юноша, и перед ними лежало холодное, успокоившееся навсегда человеческое существо. Сквозь белые опущенные шторы пробивался беловатый блеск яркого дня и играл по стенам комнаты какими-то бесформенными, смутными и неуловимыми пятнами света и тени. Минуты шли за минутами, и маятник столовых часов, словно сознавая, что он остался единственным живым существом в этой комнате, стучал громче обыкновенного, отчетливо и громко выбивая свое тик-так.
— Не надо ли чего братцу? — смутила это затишье своим ехидно-вкрадчивым вопросом Ольга Александровна, просунув в двери свое желтоватое, золотушное лицо и делая томные, чарующие глазки.
— Ему… ему больше ничего не надо! — воскликнула, поднимаясь с места, Стефания Высоцкая и зарыдала.
Слезы уже давно сдавливали ее грудь, теперь они хлынули при первом произнесенном ею слове.
— Матушка, матушка, не плачьте, — проговорил сын, едва сдерживая свои собственные рыдания, а у самого по щекам так и лились крупные, горячие слезы. — Простимтесь с ним и пойдемте.
— Братец, братец! — крикнули сестры и Марья Ивановна.
— Братец, голубчик, кормилец наш, пробудися! — тормошили они на постели застывающий труп, и было что-то страшное в его угловатых движениях.
— Вы, вы его убили! Губители! Убийцы! — пронзительно взвизгнула Ольга Александровна, обращаясь с яростными взглядами и сжатыми кулаками к плачущей подруге и жене покойника.
— Как вы смеете! — начал с негодованием юноша, становясь между обезображенною от ярости мегерой и огорченною матерью; но мать, услышав строптивый гнев в голосе сына, удержала его за руку.
— Дитя мое, здесь не место оскорбляться и оскорблять других, — строго прошептала она, так что эти слова слышал только он.
Даже не взглянув на сестер бывшего хозяина квартиры, она поцеловала покойника и вышла под руку с сыном из дома.
— Вон, вон из нашего дома! Развратница, развратница! — бесновалась, теребя свои жидкие желтые волосы, Ольга Александровна и потом снова припадала к трупу брата и тормошила его, впиваясь своими тонкими губами в губы мертвеца. — Братец, братец, убийцы твои твой последний вздох приняли. Не родные руки твои глаза закрыли.
— Тетушка, нужно за полицией послать, опечатать имущество, — проговорил Алексей Алексеевич, являясь в комнату покойника.
— Батюшка, зачем! родной наш, зачем! Никому-то теперь до нас дела нет! — метались тетки в каком-то диком отчаянии, раскачивая головами из стороны в сторону.
— Это необходимо, чтобы после историй не вышло, — объяснял племянник. — Может, у дяди долги есть…
— Какие у братца долги? На чистоту жил, голубчик… другим еще давал… Ой, ой, ой, не стало его у нас, родимого.
— Да мало ли что может случиться… Наследников будут вызывать…
— Все налицо, все налицо! Сироты горемычные! — зарыдали тетки.
— Эх, вы совсем потерялись, — махнул рукой Алексей Алексеевич.
— Да что ты с ними говоришь, батюшка? Распоряжайся, вот и конец весь, — проговорила мать Обноскова. — Ведь надо же имение привести в ясность, чтобы после споров не вышло.
— Конечно! Об этом же и я думал, — сказал Алексей Алексеевич и послал за полицией.
Труп между тем стащили на простыне на пол, и началось омывание…
— Постойте, постойте, колечко надо снять с руки братца… Еще обокрадут тебя, родимого… Ох, голубчик, голубчик ты наш! — рыдала Ольга Александровна, снимая с застывшей руки брата кольцо с брильянтом.
Только вступив в свое жилище, почувствовала Стефания Высоцкая вполне, как велика ее потеря. Весь вечер пролежала она на диване, то плача, то сожалея о том, что другие дети не успеют приехать к его похоронам. На следующий день сын обратился к матери с озабоченным! лицом.
— Матушка, ты поедешь туда? — спросил он нерешительно.
— Разумеется, — ответила она.
Сын поцеловал мать, как будто благодаря ее за что-то. И он, и она понимали, что им может встретиться еще много мелких огорчений в том доме, где лежал дорогой для них труп.
В квартире покойного уже шла панихида, когда в ней появились Высоцкие. В комнате начался едва заметный шепот.
— Какова смелость! Вот бесстыдство-то! — волновались девственницы-сестры покойника и мать молодого Обноскова.
— Бедный братец, как его позорят. И после смерти не дают покою, на глаза людям выставляют его грех!
Стефания Высоцкая, стоя на коленях, не замечала ничего и тихо молилась. Но сын, стоя около нее на страже как отважный защитник, все видел, все слышал. В нем кипела кровь, лицо горело ярким румянцем негодования. Святое чувство скорби о смерти отца было нарушено, вытеснено на время грубыми людьми из его сердца.
— Не могу, не могу не высказать! — воскликнула Ольга Александровна, вечное запевало в семейном хоре, и подошла сзади к юноше, дернув его за рукав.
Он обернулся. Панихида уже кончилась.
— Идите сюда, — позвала его Ольга Александровна.
Он пошел за нею.
— Я очень хорошо знаю… Я очень хорошо знаю, что вы лишились всего, что братец кормил, поил и одевал вас, — заговорила она скороговоркою. — Но вы должны сказать своей матери, что ей неприлично здесь быть и плакать при народе. Наша семья всегда, всегда была честною, и если братец сделал ошибку, то он за нее отстрадал, видит бог, отстрадал, и стыдно позорить его перед людьми, стыдно показывать всем, что он ошибался в жизни…