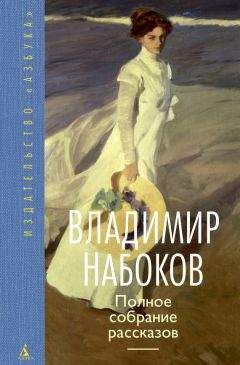В последнем номере школьного журнала Виктор поместил стихотворение о живописцах, подписанное nom de guerre Moinet[29], а надписанное так: «Негодных красных должно остерегаться; ибо когда и со тщанием приготовлены, они все одно негодны в дело» (цитата из одной старинной книги о живописном мастерстве, смахивавшая однако на политический афоризм). Стихотворение открывалось строками:
О Леонардо! Ты к свинцовой
настойке подмешал карминки,
и Моны Лизы рот пунцовый
теперь бледней, чем у бегинки.
Он мечтательно воображал, как станет умягчать свои краски по рецептам старых мастеров – медом, смоковным соком, маковым маслом, слизью розовых улиток. Он любил акварель и масло, но сторонился слишком тонкой пастели и слишком грубой темперы. Он изучал свое ремесло с тщанием и терпением ненасытного ребенка – как те ученики живописцев (а это уж Лэйк размечтался), остриженные как пажи мальчики с блестящими глазами, годами растиравшие краски в мастерской какого-нибудь великого итальянского скиаграфа, в царстве янтаря и райской глазури. В восемь лет он как-то сказал матери, что ему хочется написать воздух. В девять ему уже было знакомо чувственное упоение от постепенно сходящей на нет гаммы акварельных оттенков. Что ему было до того, что нежный кьяроскуро[30], дитя приглушенных красок и прозрачных полутонов, давно скончался за тюремной решеткой абстрактного искусства, в ночлежке омерзительного примитивизма? Он брал разные предметы – яблоко, карандаш, шахматную пешку, гребенку – и помещал их позади стакана с водой и сквозь него прилежно разглядывал каждый по очереди: красное яблоко превращалось в аккуратную красную полосу, ограниченную ровным горизонтом: как бы полстакана Красного моря, Arabia felix[31]. Короткий карандаш, если его держать наискось, извивался как стилизованная змея, но если его держать вертикально, то он чудовищно толстел, делался чуть ли не пирамидою. Черная пешка, если ее двигать туда-сюда, разделялась на чету черных муравьев. Гребенка, поставленная торчком, наполняла стакан прелестно полосатым, как зебра, коктэйлем.
За день до приезда Виктора Пнин вошел в спортивный магазин в центре Вэйнделя и спросил футбольный мяч. Хотя просьба была не по сезону, мяч ему подали.
– Нет-нет, – сказал Пнин. – Мне не нужно яйцо или, например, торпеда[32]. Мне нужен простой футбольный мяч. Круглый!
И он кистями и ладонями изобразил портативный мир. Это был тот же жест, которым он пользовался в классе, когда говорил о «гармонической цельности» Пушкина.
Приказчик поднял палец и молча принес европейский мяч.
– Да, этот я куплю, – сказал Пнин с полным достоинства удовлетворением.
Со своей упакованной в коричневую бумагу и заклеенной полосками клейкой ленты покупкой он зашел в книжную лавку и попросил «Мартина Идена».
– Иден, Иден, Иден, – забормотала высокая темноволосая продавщица, потирая лоб. – Постойте, вы имеете в виду книгу о британском министре, не правда ли?
– Я имею в виду, – сказал Пнин, – знаменитое сочиненье знаменитого американского писателя Джэка Лондона.
– Лондон, Лондон, Лондон, – сказала она, хватаясь за виски.
На помощь, с трубкою в руке, пришел ее муж, как водится, в твидовом пиджаке, писавший стихи на злобу дня. Порывшись, он извлек из пыльных недр своего не слишком процветающего заведения старое издание «Сына волка».
– Боюсь, – сказал он, – это все, что у нас имеется этого автора.
– Странно! – сказал Пнин. – Превратности славы! В России, помнится, все – маленькие дети, взрослые люди, врачи, адвокаты – все читали и перечитывали его. Это не лучшая его книга, но – окэй, окэй – я беру ее.
Вернувшись домой, то есть в дом, где он в этом году квартировал, профессор Пнин выложил мяч и книгу на письменный стол в комнате для гостей наверху. Склонив голову набок, он осмотрел свои подарки. Мяч выглядел неважно в своей безформенной упаковке: он развернул его. Теперь его красивая кожа была на виду. Комната была чисто убранная и уютная. Гимназисту должна понравиться эта картинка (профессорский цилиндр, сшибленный снежком). Поденщица только что постлала постель; старый Билль Шеппард, хозяин дома, поднялся с нижнего этажа и с важностью ввинтил новую стеклянную грушу в настольную лампу. Теплый сырой ветер поддувал в раскрытое окно, и снизу доносился шум разыгравшегося ручья. Вот-вот должен был пойти дождь. Пнин закрыл окно.
В своей комнате, на том же этаже, он нашел записку. Лаконичную телеграмму Виктора передали по телефону: в ней сообщалось, что он опаздывает ровно на сутки.
Виктора и еще пятерых мальчиков задержали в школе на один драгоценный день пасхальных каникул за курение сигар на чердаке. Сам Виктор, склонный к тошноте и страдавший множеством обонятельных фобий (все это старательно скрывалось от Виндов), в сущности и не курил, а только раз или два пыхнул. Но он несколько раз послушно ходил на запретный чердак с двумя лучшими своими товарищами, предприимчивыми проказниками Тони Брэйдом и Лансом Боком. Чтобы проникнуть туда, надо было пройти через комнату, где хранились чемоданы учащихся, а потом подняться по железной лесенке, выходившей на мостки под самой крышей. Тут восхитительный, до странного хрупкий каркас здания становился видимым и осязаемым, со всеми своими балками и решетинами, лабиринтом переборок, разрезанными тенями, непрочной дранкой, сквозь которую нога проваливалась и хрустела штукатурка, сыпавшаяся из невидимых потолков внизу. Лабиринт заканчивался маленькой площадкой, спрятанной в выеме под самой вершиной кровельного конька, среди пестро разбросанных там и сям старых комиксов и свежего сигарного пепла. Пепел обнаружили; мальчики сознались. Тони Брэйду, внуку одного именитого бывшего директора этой гимназии, было позволено уехать по семейным обстоятельствам: его хотел повидать перед отбытием в Европу нежно привязанный к нему родственник. Тони благоразумно попросил, чтобы его задержали вместе с остальными.
Как я уже говорил, директором во времена Виктора был о. Хоппер – безвредное ничтожество с темными волосами и свежим цветом лица, высоко ценимый бостонскими матронами. Когда Виктор с товарищами по преступлению обедал со всей Хопперовой семьей, со всех сторон делались разного рода кристально-прозрачные намеки; особенно старалась г-жа Хоппер, сладкогласая англичанка, тетка которой была замужем за каким-то графом: о. Хоппер мог бы сменить гнев на милость и не отправлять шестерых мальчиков рано в постель, а взять их в этот последний вечер в городской кинематограф. И после обеда, ласково подмигнув, она велела им идти за Хоппером, который быстро направился к сеням.
Старомодные попечители школы могли оправдывать те два или три случая порки, которой Хоппер подверг особо провинившихся в течение его краткого и ничем не примечательного пребывания в должности; но всех шестерых мальчиков передернуло от гнусной ухмылочки, искривившей красные губы директора, когда он задержался по дороге в сени, чтобы подобрать аккуратно сложенный конвертом пакет – подрясник и стихарь; автомобиль семейного типа стоял у дверей, и «на закуску к наказанию», по выражению мальчиков, сей лицемерный пастырь угостил их специальной службой в Радберне, в пятнадцати верстах от Крантона, в холодной кирпичной кирке с немногочисленными прихожанами.
Теоретически проще всего добираться до Вэйнделя из Крантона на таксомоторе до Фрэймингама, оттуда до Албани курьерским, а потом проехать небольшой остаток пути местным поездом в северо-западном направлении; в действительности же этот простейший способ был самым неудобным. То ли между этими двумя железными дорогами существовала старая, закоренелая распря, то ли они сговорились действовать сообща в пользу других средств передвижения, но только как бы вы ни тасовали расписания, вам ни за что не удавалось избежать по меньшей мере трехчасового ожидания поезда в Албани.
Можно было, правда, уехать из Албани одиннадцатичасовым автобусом, прибывавшим в Вэйндель в три часа дня, но для этого надо было сесть на поезд, уходивший из Фрэймингама в 6.31 утра, а Виктор знал, что не встанет вовремя; поэтому он выбрал более поздний и куда более медленный поезд, но на нем можно было поспеть в Албани на последний автобус в Вэйндель: он и доставил его туда в половине девятого вечера.
Всю дорогу шел дождь. Он шел не переставая и когда Виктор прибыл на вэйндельскую автобусную станцию. Из-за своей природной мечтательности и легкой рассеянности он всегда оказывался в хвосте любой очереди. Он давно привык к этой незадаче, как привыкаешь к близорукости или хромоте. Немного сутулясь из-за своего роста, он терпеливо тянулся за пассажирами, которые гуськом пробирались по автобусу к выходу и сходили на блестящий асфальт: две грузные старые дамы в полупрозрачных ватерпруфах, похожие на картофелины в целлофане; мальчик лет семи или восьми, стриженный ежиком, с нежным затылком; угластый застенчивый пожилой калека, который отказался от всякой помощи и выбрался наружу по частям; три вэйндельские студентки в коротких штанах, с розовыми коленками; изнеможенная мать мальчика; еще несколько пассажиров; а потом уж только – Виктор, с котомкой в руке и двумя иллюстрированными журналами подмышкой.