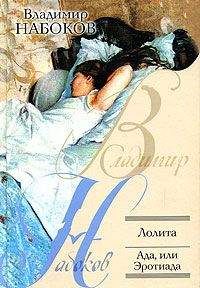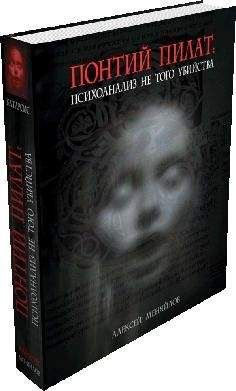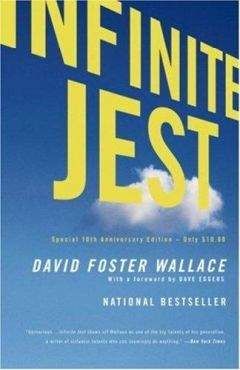– Вообще-то, римляне, – сказал Грег, – римские колонизаторы, которые в давние времена распинали евреев-христиан, вараввинов и прочих горемык, тоже не ели свинины, но и я, и дедушка с бабушкой едим за милую душу.
Употребленный Грегом глагол озадачил Люсетту. В виде иллюстрации Ван сомкнул лодыжки, вытянул руки в стороны и закатил глаза.
– Когда я была маленькой девочкой, – сварливо сказала Марина, месопотамскую историю начинали учить чуть ли не с колыбели.
– Не всякая маленькая девочка способна выучить то, чему ее учат, отметила Ада.
– А мы разве месопотамцы? – спросила Люсетта.
– Мы гиппопотамцы, – откликнулся Ван и прибавил: – Пойдем, мы еще не пахали сегодня.
Одним-двумя днями раньше Люсетта потребовала, чтобы он научил ее ходить на руках. Ван держал ее за лодыжки, а она медленно продвигалась на красных ладошках, по временам с кряхтением плюхаясь лицом в землю или останавливаясь, чтобы скусить ромашку. Так, протестуя, скрипуче затявкал.
– Et pourtant, – сказала, поморщившись, гувернантка, не выносившая резких звуков, – а ведь я дважды читала ей переложенную Сегюром в сказку шекспировскую пьесу о злом ростовщике.
– Она еще знает переделанный мною монолог его безумного короля, сказала Ада:
Ce beau jardin fleurit en mai
Mais en hiver
Jamais, jamais, jamais, jamais, jamais
N'est vert, n'est vert, n'est vert, n'est vert,
n'est vert.
– Здорово! – воскликнул Грег, буквально всхлипнув от восторга.
– Не так энергично, дети! – крикнула Марина Вану с Люсеттой.
– Elle devient pourpre, она побагровела, – заметила гувернантка. – Я вас уверяю, эта неприличная гимнастика нимало ей не полезна.
Улыбаясь одними глазами, Ван крепкими, будто у ангела, руками держал девочку за схожие с холодной вареной морковкой ножки, обхватив их чуть выше подъема, и «пахал землю» с Люсеттой взамен сохи. Яркие волосы упали ей на лицо, из-под краешка юбки вылезли панталончики, но она все равно настаивала на продолжении пахоты.
– Будет, будет, that'll do! – крикнула пахарям Марина.
Ван плавно опустил ноги Люсетты на землю и оправил на девочке платьице. Она еще полежала с секунду, переводя дух.
– Я к тому, что с радостью дам его тебе хоть сейчас, катайся. На любой срок. Хочешь? У меня кроме него еще один есть, вороной.
Но она покачала головкой, покачала поникшей головкой, продолжая свивать и свивать ромашки.
– Ладно, – сказал он, вставая, – надо идти. Счастливо оставаться всем вам. Счастливо оставаться, Ада. Это ведь твой отец там под дубом, верно?
– Нет, это вяз, – ответила Ада.
Ван глянул через лужайку и произнес, словно бы про себя – с самой малой, быть может, долей ребяческой рисовки:
– Надо бы и мне заглянуть в этот зулусский листок, когда дядя его дочитает. Предполагалось, что во вчерашнем крикетном матче я буду играть за гимназию. Бэтмен Вин из-за болезни на поле не вышел, «Риверлэйн» посрамлен.
Как-то под вечер они взбирались на глянцевито-ветвистое шаттэльское древо, росшее в дальнем углу парка. Мадемуазель Ларивьер с малышкой Люсеттой, скрытые прихотью поросли, но отчетливо слышимые, играли в серсо. Время от времени над или за листвой промелькивал обруч, посланный с одной невидимой палочки на другую. Первая цикада этого лета старательно настраивала свой инструмент. Похожая на серебристого соболя белка-летяга сидела на спинке скамьи, смакуя еловую шишку.
Ван, добравшись в своем синем трико до развилки, расположенной прямо под его проворной подружкой (разумеется, лучше него знакомой с заковыристой географией дерева), но лица ее так и не увидев, послал немое известие, сжав ей двумя пальцами (указательным и большим) щиколку, как сжала бы она сложившую крылья бабочку. Босая ступня ее соскользнула, и двое запыхавшихся подростков постыдно сплелись средь ветвей, стискивая друг дружку под легким дождиком плодов и листьев, и в следующий миг, едва они восстановили подобие равновесия, его лишенное выражения лицо и стриженая голова очутились промеж ее ног, и упало, глухо стукнув, последнее яблоко – точкой, сорвавшейся с перевернутого восклицательного знака. На ней были его часы и ситцевое платье.
( – Помнишь?
– Конечно, помню: ты поцеловал меня здесь, снутри...
– А ты начала душить меня своими дурацкими коленками...
– Я пыталась найти хоть какую опору.)
Быть может и так, но согласно более поздней (значительно более поздней!) версии, они еще оставались на дереве, еще пунцовели, когда Ван снял с губы гусеничную шелковинку и заметил, что подобное небрежение по части наряда есть форма истерии.
– Ну что же, – ответила Ада, уже оседлавшая излюбленный сук, – как всем нам теперь известно, мадемуазель Алмазова-Ожерельская ничего не имеет против того, чтобы истерические девочки не носили панталончиков в пору l'ardeur de la canicule[46].
– Я отказываюсь делить твой жар с какой-то яблоней.
– На самом деле мы находимся на Древе Познания, – этот экземпляр прошлым летом привезли сюда в парчовой обертке из Эдемского Национального Парка, в котором сын доктора Кролика служит смотрителем и скотоводом.
– Пусть подсматривает сколько влезет и водится с кем ему нравится, сказал Ван (естественная история давно уже действовала ему на нервы), – а я вот готов поклясться, что в Ираке яблони не растут.
– Верно, но это ведь не всамделишная яблоня.
(«И верно, и неверно, – опять-таки много позже прокомментировала Ада: – Мы часто об этом спорили, и все же в ту пору ты не мог отпустить столь вульгарной остроты. В минуту, когда невиннейшая случайность позволила тебе, как говорится, сорвать робкий поцелуй! Стыд и позор! Кроме того, восемьдесят лет назад в Ираке не было никакого Национального Парка». «Справедливо», – сказал Ван. «И никакие гусеницы не кормились на том дереве в нашем саду». «Справедливо, любовь моя, так и не ставшая ларвой». Естественная история стала к этому времени историей древней.)
Оба вели дневники. Вскоре после предвкусительного эпизода случилось забавное происшествие. Ада направлялась к дому Кролика с ящичком искусственно выведенных, хлороформированных бабочек и, уже перерезав парк, вдруг остановилась и выругалась («черт!»). В этот же самый миг Ван, шедший совсем в другую сторону, к расположенному невдалеке от усадьбы павильону, в котором он думал поупражняться в стрельбе (там имелся еще кегельбан и прочие увеселительные затеи, бывшие некогда в большом почете у иных Винов), тоже замер на месте. Затем, по симпатичному совпадению, оба припустили назад, к дому, чтобы спрятать дневники, которые, как обоим подумалось, остались лежать раскрытыми в их комнатах. Ада, страшившаяся любопытства Люсетты и Бланш (патологически ненаблюдательная гувернантка опасности не представляла), обнаружила, что ошиблась, – она убрала свой альбомчик с занесенной в него самой последней новостью. Ван, знавший, что Ада склонна совать нос куда не просят, застал у себя в комнате Бланш, якобы застилавшую уже застланную постель, на столике у которой и лежал незапертый дневничок. Слегка пришлепнув ее по заду, он переложил шагреневую книжицу в более надежное место. Вслед за тем Ван и Ада, встретившись в коридоре, обменялись бы – на более раннем этапе эволюции романа в истории литературы поцелуями. Прекрасный вышел бы эпизод, развивающий Сцену на Шаттэльском Древе. Вместо того они отправились каждый своей дорогой, а Бланш, я полагаю, удалилась рыдать к себе в спаленку.
Их первым вольным и неистовым ласкам предшествовал краткий период странных уловок, вороватого притворства. Злоумышленником в маске был Ван, но и ее попустительное приятие поступков бедного мальчика, похоже, содержало в себе безмолвное понимание их позорной и даже чудовищной сути. Несколько недель спустя оба взирали на этот период его ухаживания с усмешливым снисхождением; но в ту, начальную пору неявное малодушие оного удивляло ее и угнетало его – главным образом тем, что он остро ощущал ее удивление.
И хотя Вану ни разу не довелось приметить в Аде – далеко не пугливой и не склонной к чрезмерной брезгливости («Je raffole de tout ce qui rampe») чего-либо хоть отдаленно схожего с девическим отвращением, он мог при услужливом потворстве двух-трех пугающих снов, представить себе, как в реальной или хотя бы респектабельной жизни она, испуганно отпрянув, оставляет его наедине с неудачливой похотью и бежит за матерью, гувернанткой или великанского роста лакеем (не существующим в доме, но легко умертвляемым во сне – избиваемым шипастым кастетом, пробиваемым насквозь, словно он не человек, а наполненный кровью пузырь), вслед за чем, сознавал Ван, его навсегда изгонят из Ардиса...
(Рукою Ады: Я решительно возражаю против формулы «не склонной к чрезмерной брезгливости». Она не отвечает истине и сомнительна по вкусу. Ван, пометка на полях: Прости, киска, но ее придется оставить.)
...но если бы он и смог заставить себя посмеяться над этими страхами и выбросить их из головы, все равно гордиться в своем поведении ему было нечем: в тех действительных его потаенных посягательствах на Аду, в том, что и как он с ней делал, в этих негласных наслаждениях Ван представлялся себе не то злоупотребляющим ее невинностью, не то принуждающим Аду таить от него, таящегося, свое понимание того, что он таит.