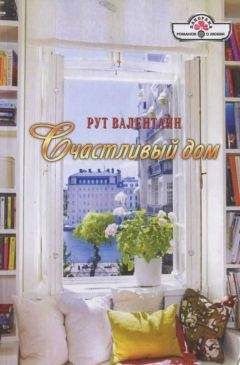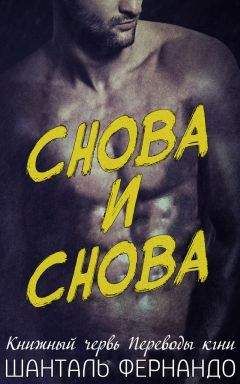пошла в универмаг, где я что-то украла. И как унизительно это для нее было. Не вспоминаем и то, как она экономила, чтобы послать мне двадцать долларов, когда я в первый раз сбежала в Нью-Йорк.
И вдруг я вспоминаю, это ужасное воспоминание, вспоминаю, как они с отцом пришли ко мне в клинику, в которой меня закрыли. Они шли в тумане по большому парку. Они были такие маленькие в этом тумане.
Я сказала себе, увидев их издалека, буду вести себя прилично.
Я знала, что им обоим было не по себе. Что оба страдали от того, что дочь закрыли в клинике. Да, надо было вести себя прилично. Этого я сестре не сказала.
Они говорили с врачом. Врача звали доктор Кампань [1], и он носил кожаный галстук.
Я сказала ему, это же не ваше настоящее имя, вы прячете ваше настоящее имя во французской земле, в деревенской земле, но я знаю, что вы не из деревни, добавила я, играя с его галстуком, и дальше сказала, как бы невзначай, вы знали, что немцы делали лампы из кожи евреев?
Тогда у меня всё отобрали, ножницы и всякое такое, всё острое, и заперли меня.
Ночью я хотела выйти из палаты, чтобы пройтись по коридору. Меня достала моя палата. Я попыталась открыть дверь. Ничего не получилось. Я сказала себе, наверное, я не понимаю, как она открывается, из-за моей непрактичности. Но я очень хорошо понимала, что дверь заперта на ключ. Меня просто-напросто заперли. Я сказала себе, что не надо было мне рассказывать всё это доктору Кампань и о евреях говорить не надо было. Сказала себе, они не имеют права. Это уже слишком. Я сюда приехала не за этим. Не за тем, чтобы меня запирали, а чтобы мне стало лучше, а так как запирание – часть моей проблемы, мне стало хуже.
Как только рассвело, я позвонила своему доктору в город. К счастью, телефон работал. Он освободил меня из этой палаты. Мне дали палату, окна которой смотрели на парк, и дверь открывалась в парк, а воздух ведь полезен для здоровья, например, деревенский воздух. Но я часто не люблю деревню. Не помню уже, отдали ли мне ножницы. В любом случае, я быстро уехала в Брюссель, пройдя через большой затянутый туманом парк, и там я долгое время жила с отцом. Так я лучше узнала моего отца и полюбила его. Его было за что любить.
Однажды мать сказала мне, когда я вышла оттуда, сердце у меня было мертво. Может быть, оно уже было чуть-чуть мертвое, когда я была маленькой или даже всегда, но мне так не кажется. Я не знаю. Да и к чему знать такое. Это, вероятно, нужно, чтобы защищаться от всех этих слов любви, которые порой звучат фальшиво, немного фальшиво в любом случае и даже часто. Но порой нет.
Кроме этого, она ничего не рассказывала о том месте, когда я ее спрашивала, только такие вещи, как подруга меня спасла тем, что воровала картошку. Она рассказывала мне только о замечательных вещах. Иначе она ничего не могла сказать.
Мать чувствует, что моя сестра хорошо защищается, а мне это дается сложнее.
Она знает, что сестра делает всё, что нужно, чтобы сохранить ей жизнь, любой ценой, но только не слушает ее, не прижимает к себе, а мать больше всего хочет и больше всего нуждается именно в этом, чтобы ее прижали к себе, и так она забудется или наоборот, почувствует, что живет.
Я не думаю, что я такая, как она. Но тогда почему мне однажды взбрело в голову поехать к С. в Лондон? Да, да, зачем, если не за тем, чтобы меня обняли, а я даже не знала бы эти руки, знала бы только по мейлам, или смс, или по личным сообщениям в фейсбуке. Да, я фантазировала, и это было потрясающе. Надо было так всё и оставить, в фантазии, так для меня лучше, особенно когда это так начинается. Но это случилось впервые, я никогда не переживала подобный опыт, и я была доверчива и беззащитна.
Я сказала сестре, не надо было тебе заводить мне фейсбук.
Сестра ответила, я тебе не для этого его заводила.
Знаю, но это случилось и отменить это уже трудно.
Тебе да, возможно, сказала моя сестра, которая была замужем больше тридцати лет.
Она сказала мне это очень мягко. Эта мягкость меня растрогала до слез. Я сказала ей, ты сегодня очень красивая. У тебя очень красивое платье. Ты так считаешь? Я сказала да, знаешь, у меня еще бывают моменты.
К счастью. А тебе не кажется, что маме лучше, у нее еще нет хороших моментов, то есть я имею в виду по-настоящему хороших, но ей лучше. Да. Правда. Но она говорит меньше, чем раньше, и ее это утомляет. Иногда она говорит, и для нее это хороший момент, на данный момент.
Однажды утром она много говорила со мной. Я ей отвечала, уже не помню что. Иногда слова, которые она говорит, не имеют значения. Важно ответить на то, что не выражено. Поэтому я говорю ей то, что она хотела бы услышать.
Говорю, что уеду из Нью-Йорка, вернусь в Париж, так я буду близко и буду часто приезжать к ней в Брюссель. Не каждую неделю, но часто. Да, это было бы прекрасно, говорит она. Вот, пожалуйста, я не умею защищаться.
Я тут же думаю, что не надо было мне этого говорить матери и, возможно, мне лучше остаться в Нью-Йорке, тогда бы я время от времени звонила ей по скайпу и всё. Ну ладно, поживем – увидим.
Мать снова говорит, я больше никогда не смогу поехать в Мексику.
Нет. Скорее всего, нет. Я говорю, они сами к ней приедут, сестра, ее муж, ее племянница с мужем и ее внук, которого она так бы и съела.
Он такой хорошенький, говорит она мне. Да, говорю я, хорошенький. И нежный для мальчика, это удивительно. Иногда берет меня за руку, и мы идем по кварталу несколько минут, больше я не могу. И я чувствую себя такой гордой, и сердце у меня наполняется радостью. Да, мама, знаю.
Она также очень любит свою внучку, которая только что вышла замуж.
У внучки, возможно, скоро будет ребенок, но когда, никто не знает,