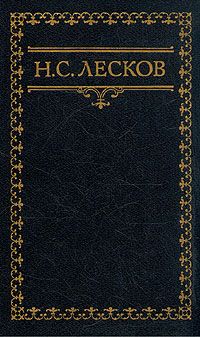И так толпа дала «браво» бедной Режине; девушка закрыла свое окошечко, и толпа заговорила опять о С., а С. лежал на полу своей комнаты, и сержанты все еще ломали двери. Мне теперь все было видно. С., совершенно раздетый, с черным лицом, лежал навзничь; два рабочих стояли возле него на коленях и из всей силы терли ему живот и подвздошье чулочками Режины. Доктора еще не было; по лестнице вскочил медицинский студент с длинным холщовым бинтом в руке; рабочие продолжали свою работу. С них лился пот, и они сбросили блузы.
— Вздохнул! — закричал рабочий с добродушным лицом. — Вздохнул! — повторил он, выглянув в окно и опять бросился растирать С. Режининым чулочком.
Толпа затолковала: «его будут судить», «не будут»; «он, верно, обанкрутился»; «ему, верно, жена изменила»; «может быть, дочь…» Боже! неужто это чистое дитя не ушло от общей участи!
Пришел доктор, попробовал, прочна ли лестница, и полез. Оказалось, что рабочий ошибся, что С. не вздыхал, что он задушил себя по всем правилам французского самоубийства и отравился, оставив свою торговлю вином жене и детям. «Но где же жена и дети?» — спрашивает толпа. «Где мадам С.?» — спрашивает полиция. Никто ничего не знает. Тут и есть основание трагедии, разыгравшейся сегодня в улице Эколь-де-Медесинь.
Г. С. было около 60 лет, но он был бодр, свеж и здоров. Он был не старее любого сорокалетнего петербургца. Он имел дочь от первой жены; потом, овдовев назад тому лет около шести, женился на другой жене, с нею прижил двух детей. Жене его лет 28, она женщина довольно красивая и энергическая. По рассказам, она, кроме того, женщина необыкновенно трудолюбивая и хорошая мать. «Ее дети никогда не знали няньки и не бегали по тротуарам», — говорит моя старушка мадам Лакур. Когда я приходил в погреб к С., я, кроме того, всегда видел мадам С. за конторкой; старшая девочка помогала ей отпускать товар, а младшая возле ее училась читать; тут же вертелся и третий ребенок. Мадам С. мне всегда казалась женщиной очень приятной, но немножко капризной и нетерпеливой: это выражалось в ее приемах, движениях бровей и в голосе. У старика С., говорят, было 24000 франков собственного капитала, когда он женился на своей второй жене; но в последние годы ему все как-то не везло в торговле. Слухи носились, что они с женою живут не совсем-то ладно, но ссор так больших между ними не замечали. За мадам С. в свою очередь не заметали никаких воль-о-ван. Но, назад тому дней пять, мадам С. исчезла, а с нею исчезли и двое ее детей и падчерица. Г. С. взял себе в помощь мальчика и торговал по обыкновению. В околотке у нас заговорили, что мадам С. ушла с любовником в Венсенн; другие говорили, что она живет с детьми в Монрозе, а С. молчал и на все вопросы своих обычных посетителей отвечал только, что ни жены его, ни детей нет дома. Мальчик говорит, что по ночам г. С. то все писал какие-то счеты, то вставал быстро, ходил по комнате, то плакал и молился. Вчера он закрыл свой погреб в 11-ть часов и лег в постель, но вскоре встал, пошел в комнату дочери и долго там оставался. Мальчик пошел посмотреть, что там так долго делает г. С. Подходя к двери, он услыхал, что хозяин рыдает. Мальчик взглянул в отворенную дверь: С. стоял на коленях у постели дочери и горько плакал, облокотясь руками на девственную кроватку. Мальчик сошел вниз, а через полчаса сошел туда С. и, выслав мальчика спать, запер за собою дверь своей комнаты. Мальчик не видал, как С. принес в свою комнату жаровню, на которой грели вино, а утром этот же мальчик не достучался в хозяйскую дверь. Услышав угольный запах, он соскочил вниз к входной двери и в испуге начал стучать своими кулачонками, пока стук этот услыхали прохожие, и произошла описанная мною сцена.
Все это рассказано в толпе, стоящей на улице под моим окном, и все это потом разнесено по городу спокойною толпою.
— С. глуп, — говорили в толпе.
— Чем он глуп?
— Зачем он на старости лет женился.
Два студента, с коротенькими трубочками в зубах, пыхнули дымом под нос двум дрожавшим от сырости гризеткам и, взявшись под руки, запели:
En rendant la serpette,
Colin parla d'amour,
Et Nicette, à son tour,
Le paya de ret our.
Рабочий с добродушным лицом присвистнул начало припева, и толпа вдруг разошлась, напевая:
Eh! allez donc, allez donc, Turlurette!
Eh! allez donc, Turlurette, allez donc![2]
Больше никто не говорит уже о С. Только Режина, когда я ей принес, в 5 часов, новые чулочки, сказала мне: «А знаешь ты, какая хорошенькая мадам С. в трауре?»
— А она приехала?
— О да. Я уж ей сшила черный чепчик.
— И что тебе заплатили?
— Франк четыре су.
— И за чепчик, и за твои чулки.
— О какой ты смешной! Кто же мне будет платить за мои чулки? И разве я возьму?
— Да ведь мадам С. буржуа, у нее есть свой погреб, а у тебя даже нет камина в твоей комнатке.
— Э! мой друг! — сказала, вздохнув, Режина. — У меня холодно, у меня нет денег, чтобы нанять комнату с камином; но я еще довольно богата, чтобы купить себе жаровню и на три су самого едкого угля. Только я тогда буду черная, точно негритянка. Ты меня испугаешься, да? не поцелуешь меня? да? Ах, какие славные чулочки! Благодарю, благодарю. Пойдем сегодня, после обеда, в Водевиль.
— С какой это радости?
— Так, пойдем.
— Ну, пойдем так.
Мадам Пергон всех смешит, и все хохочут. С Режиной чуть не делается дурно от смеха. Я нахожу это неприличным, а она находит неприличным, что я не смеюсь. Возвращаясь домой и проходя мимо окна С., мы увидели свет.
— Это свечи около С.
— Ох да, — отвечала Режина. — Не знаю, вот Селины нет три дня. Нужно бы завтра сходить в Морг.[3]
— О! о! о! малютка Режина! Вы все мокры, вас измочил дождь, — говорит моя приветливая старушка. — Идите к огню скорей.
— А! у него есть огонь. Огонь! огонь! огонь, — весело кричит Режина и, подвинув к камину кресла, греет перед ярким огнем свои мокрые ножки в новых чулочках и сердится, что я пишу на каком-то дурацком языке.
О, как хорошо жить в Париже!
6-го февраля 1863 года.
Paris, rue de I'École de Médecine
Папаша Нисетты
Давал ей советы:
«Для жизни приличной,
Достойной, отличной
В девичьей каморке
Работай, юла!»
Девица желала
Ла-ла-ла-ла-ла-ла
Делами украсить папаши слова.
А ну, давай, давай, юла,
Давай, давай, юла!
(Пер. с франц. М. Тростникова)
Когда на покосе
Сказал: «Я люблю»
Колен, без вопросов
Головку свою
Склонила Нисетта,
Забыв про советы.
Такие дела! А ну, давай, давай, юла,
Давай, давай, юла!
(Пер. с франц. М. Тростникова)
«Морг» — дом, в котором выставляют тела, находимые в Сене, для того, чтобы их могли признать родственники или знакомые. «Морг» обыкновенно полон народом и особенно женщинами.