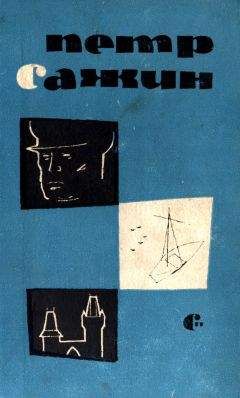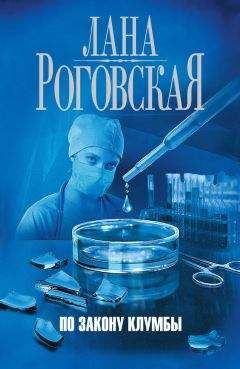— Если хотите знакомиться, — сказала девушка, улыбаясь, — идите в дом. Там мама. Она гостеприимная женщина и ничего не имеет против соседей. А здесь моя мастерская — сюда я никого не пускаю.
И с этими словами она окинула обоих друзей смеющимся, блестящим взглядом и исчезла.
Друзья переглянулись и засмеялись.
— Какова художница! — сказал Волков. — Прелесть что за головка!
— Предупреждаю тебя, что я влюблён.
— Уже? Я тебе мешать не стану. Я только с точки зрения искусства…
— Знаем мы ваше искусство. Однако идём к «маме»!
— Как? Куда?
— Знакомиться, чёрт возьми! Сказано: «Идите к маме». Неужели же пропустить такой случай? Я ж тебе говорю, что я влюблён.
— Однако, как же так, прямо? Ведь мы даже и не знаем, кто такая эта барыня. Хоть разузнать сначала.
— Не всё ли равно? Да вот какие-то ребятишки идут, спросим. Мальчик, послушай, как тебя звать?
— А Сенькой, — отвечал быстроглазый курносый мальчик лет одиннадцати, за которым застенчиво пряталась крошечная беловолосая девочка.
— Вот как! А сестру твою Дашей зовут?
— Дашкой.
— Вот они, Сеня и Даша! — воскликнул Бартенев, чему-то обрадовавшись. — Ну, Сенька, ты мне скажи, кто тут живёт — я тебе гривенник дам.
— Гривенник?
— Двугривенный. Говори живее!
— А что говорить-то?
— Кто здесь живёт, в этом доме?
— В этом доме? Известно, наша барыня.
— Ты что же, к ней идёшь?
— К барыне-то? Нету. Мы к барышне.
— Как её зовут, барышню?
— А Варварой, Варварой Михайловной. Мы к ней.
— Зачем же? В гости, что ли?
— А она посадит Дашутку, а я стоять буду, и картину с нас рисует. И потом пятачок даст — мне пятачок и Дашутке пятачок. Таки махоньки пятаки, светлые. Серебряные, стало быть.
— Ну, вот тебе двугривенный. Спасибо, что сказал. Ну, а барыня теперь где?
— Кто? Марья Николавна? Где же ей быть? Чай дома сидит.
— Как её фамилия? Как её зовут?
— Так и звать Марьей Николавной. Барыня!
— Довольно тебе к нему приставать, — вмешался Волков. — Будет с тебя. Пойдём.
— Пойдём. Да куда ты?
— Как куда? Домой.
— Что-о? Идём знакомиться к Марье Николаевне.
— Ни за что! Можешь идти один, если хочешь.
— Один я идти не хочу, а знакомиться хочу, и потому ты пойдёшь со мной.
Художник вздохнул и покорился.
Друзья обманулись в своих ожиданиях. С Марьей Николаевной они познакомились, — она оказалась действительно гостеприимной женщиной, — но дочь её им так и не удалось увидеть, несмотря на то, что просидели они у новой знакомой целый час. Их появлению соседка даже нисколько не удивилась. Это была простая добродушная женщина, которая держалась как пожилая домовитая мать семейства, нисколько не занимаясь собой, хотя была ещё очень моложава и даже красива.
— Приходите, когда вам вздумается, без церемонии, — говорила она. — Только живём мы очень тихо — дочь да я. Не очень-то у нас весело вам покажется.
Разумеется, молодые люди протестовали. Могло ли быть невесело в таком прелестном уголке, с такими интересными обитателями и т. д.?
— Вы же не скучаете, Марья Николаевна, — сказал Бартенев.
— Я-то? Мне некогда скучать, — сказала она с улыбкой. — Хозяйство небольшое, — вы видите, что у меня вся усадьба запущена, — а всё-таки есть… Да, с тех пор, как скончался покойный муж, всё пришло в упадок, — прибавила она со вздохом. — Хорошо ещё, что Варя моя такая покладистая, что в деревне не скучает.
— А вы всегда в деревне — и зиму, и лето?
— Круглый год. И здесь нам хорошо живётся. Прежде, бывало, в Москве жили, а теперь всегда здесь… И, право, довольны. Варя чудачка у меня; ей нравится такая жизнь. Ну, а мне только и нужно, чтобы она была довольна. Занята она с утра до вечера. Днём я её редко и вижу. Сидит в своей мастерской или в лесу пропадает.
Новые знакомые не могли не пожалеть об этом и ушли, обещая любезной хозяйке «надоесть» своими посещениями.
Они отправились домой в прекрасном расположении духа. Бартенев даже запел было: «Благословляю вас, поля, леса, долины, нивы»… [1], но ненадолго. От этого христианского романса он сейчас же перешёл к другому, более современному произведению, и принялся насвистывать вальс из «Боккаччо» [2].
— Так-то лучше, — заметил Волков, усмехнувшись. — Это тебе больше идёт!
На следующий день было воскресенье.
Посмотревши издали, как пёстрая толпа расходилась из приходской церкви, — ибо начало обедни оба проспали, просидевши чуть не целую ночь на террасе, — друзья отправились бродить. И как-то так вышло, само собой, что они очутились в Колосово, т. е. в старой усадьбе своей новой знакомой, Марьи Николаевны Колосовой.
На этот раз по какому-то необъяснимому инстинкту они пришли прямо к большому пруду, и инстинкт не обманул их. Между деревьями, у воды, белела женское платье.
— Вот тебе и белое платье! — воскликнул художник.
— В белом она должно быть ещё лучше, — сказал Бартенев, бросая закуренную папироску.
Это была действительно она, т. е. Варя.
На ней было белое платье, только совсем не такое, как обыкновенно бывает у героинь французских романов, где непременно фигурируют шумящие трены и облака кружев. По-видимому, молодая девушка не любила одеваться «как все», и костюм её отзывался именно тем чудачеством, о котором говорила мать. Её белое платье было похоже на какой-то халат с широкими рукавами, стянутый золотым шнурком вместо пояса. Хорошенькую головку обвивал платок, на этот раз не красный, а золотисто-жёлтый, накинутый на её чёрные кудри небрежно, но необыкновенно живописно. Поза её тоже не лишена была живописности. Она поместилась на низкой толстой ветке берёзы, свесившейся над водой так, что концы ветвей купались в воде, и читала, опираясь головкой на руку. Большой букет свежей сирени лежал у неё на коленях.
Самая утончённая кокетка не могла бы выбрать более грациозной позы и наряда, чтобы предстать перед глазами того, кому она желала нравиться. Но в позе Вари не было ничего преднамеренного, и друзьям пришлось в этом совершенно убедиться. Она, очевидно, искала уединения и была до такой степени погружена в своё чтение, что совсем не слыхала, как они подошли.
А потому они подошли так близко, что она увидела их почти у самого того дерева, на котором уселась. Бартенев задел какую-то ветку, ветка хрустнула. Девушка подняла голову и от неожиданности, встретив пристальный взор, устремлённый на неё, вздрогнула и уронила книгу.
Волков поспешил поднять её, и при этом ему нечаянно бросилось в глаза заглавие. То было сочинение Аллана Кардека.
— Извините, мы кажется испугали вас? — сказал он, подавая ей книгу.
Она вдруг покраснела и поспешно спрыгнула со своей ветки. Книгу она взяла и сейчас же сунула в карман.
— Вы всегда появляетесь как-то неожиданно, — сказала она.
— Вы так углубились в ваше чтение, что не слыхали, как мы подошли, — оправдывался Бартенев. — Должно быть, очень интересная книга?
— Для меня интересная.
— А нам вы её не покажете, Варвара Михайловна?
— Вы знаете моё имя? — удивилась она, раскрывая свои зелёные глаза.
— Нам вчера Сеня сказал. Кроме того, мы имели удовольствие быть у вашей мамаши… — начал Бартенев.
— Да, я знаю.
— Так что теперь мы можем считаться знакомыми. Не правда ли?
— Да, — отвечала она серьёзно и протянула ему руку. Потом она обернулась к Волкову и, посмотревши на него несколько секунд пристальным взглядом, сказала ещё серьёзнее. — Вы мне нравитесь.
Художник поклонился, немножко смущённый.
— А я? — воскликнул Бартенев, жалобно-комическим голосом.
— Ещё не знаю, — отвечала она спокойно.
«Чудачка!» — подумал он с досадой.
И все трое отправились через рощу в дом.
С этого дня молодые люди стали бывать в Колосово каждый день. У художника скоро установились с Варей самые дружеские, конфиденциальные отношения. Она даже пустила его в свою мастерскую, чего не делала ни для кого, и чего Бартенев от неё так и не мог добиться. Молодая девушка вечно имела что-нибудь сообщить своему новому другу, показывала ему свои работы и отправлялась с ним в лес — писать этюды с натуры.
Бартенев влюбился не на шутку и начал ревновать приятеля к Варе.
— На твоём месте я бы не стал ревновать, — сказал однажды Волков. — Как ты можешь ревновать её ко мне?
— Отчего же не к тебе, когда ты за нею ухаживаешь, а она оказывает тебе предпочтение?
— Я и не думаю за ней ухаживать, и она мне никакого предпочтения не оказывает. Мы с ней просто хорошие товарищи; оба любим искусство… Она недурно пишет…
— Так я тебе и поверил!
— Это как тебе угодно. Вообще ты не станешь отрицать, что ты больше меня нравишься женщинам.