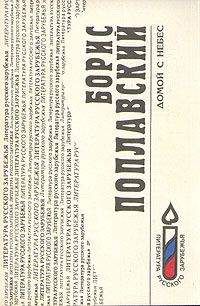В вагоне мы давно привыкли друг к другу, и при дневном свете он казался таким родным и знакомым, как дача, с которой завтра съезжать. Небо давно уже сияло безупречной голубизною, и вот наконец между розовыми корпусами фабрик, как синий луч, как дивное тело в разрезе античной дерюги, блеснуло оно, и около него огромными буквами было написано: „Briqueteric Centrale de Marseille“.[3]
Молодожены складывали чемоданы, вдруг остепенившись и всем существом показывая, что им-де есть куда податься, и запах разлитой жизненной силы в вагоне сменился запахом одеколона, в котором столько утра, молодости, счастья. Невольное радостное возбуждение, с которым бороться было невозможно, билось в висках, и все за окнами с почти непереносимой яркостью врезалось в утомленные за ночь глаза; повышенные светочувствительные от бессоницы, они досадовали на бесконечные туннели, выемки, задворки, палисадники, дачные станции, скрывающие море. Наконец поезд остановился около нескладного вокзала, полного загорелых джентльменов в белых брюках довоенного вида. Здесь следовало еще ждать полтора часа, но едва поезд снова тронулся, я устремился, заперся в клозете, куда яркость неба доходила, врывалась сквозь матовое стекло, и, скинув рубашку, принялся тревожно рассматривать себя в дрожащем зеркале — достаточно ли я натренирован, чтобы без позора появиться на пляже».
«Мир не может быть только мыслим Богом, ибо мысль не имеет протяжения и вся в восхищении открытия, но мир не может быть только воображением Бога, ибо воображенное необходимо подчинено воображающему и в нем не могло бы быть ни греха, ни свободы, ни искупления… Нет, мир должен быть сном Бога, раскрывшимся, расцветшим именно в момент, когда воображение перестало Ему подчиняться и Он заснул сном мира, потеряв власть, отказавшись от власти, и было в этом нечто от грехопадения звездного неба, вообразившего себя человеком, и, конечно, именно дьявол научил человека аскетизму, потому что любовь есть та самая сонливость — жизнь, которая сладостно усыпила Бога, а пробуждение от нее есть смерть одиночества и знания, в то время как жизнь есть гипнотическая жизнь, до слез принимаемая всерьез… Так снова здесь, на высоком берегу, над сияющей музыкой моря, я борюсь с тобою, о счастье мое, сон, любовь, жизнь; но как странно и сладко было бы сдаться, снова сделаться человеком, опять страдать… Как величественно холодны и оскорбительно умны те, кто разомкнули хотя бы на миг, на время огненный круг бесперерывного совокупления сердца с жизнью — но не для чудовищных снов неудовлетворенного сладострастия, подобных каббалистическому умственному распутству Адама до сотворения Евы. Распутству, породившему всю нечисть подлунного мира не для эротической бессонницы, а для ослепительного, до боли яркого света, абсолютного пробуждения люциферической девственности, в осатанении коей отсюда, с обрыва высокой дороги, я смотрю вниз на узкий пляж у самого стеклянного, ядовито-синего моря, откуда явственно в яркой тишине полудня долетает звон электрического граммофона. Там, между пестрыми зонтиками палаток, коричневые люди танцуют в воде вокруг перевернувшейся душегубки, радостно бьются полуголые дивы, загорелые, крепконогие дьяволицы этих мест, а вдали горизонт покрыт белыми облаками».
Олег ехал к морю с удивлением и тревогой, сделавшими для него почти неприятной его ослепительную новизну. Оба не могли себе еще и представить, что спать можно будет прямо в лесу на хвое, по-индейски завернувшись в одеяло, или на пляже, вообще где угодно, что дождя нет и нет вообще ничего похожего на Францию на этом странном изумрудном берегу, куда по разным причинам с веселым и тяжелым сердцем они катили теперь на паровичке от Тулона совсем вдоль моря среди скал, дач, и кактусов, и ободранных пробковых дубов. Всю ночь Олег проговорил в коридоре вагона — настолько его мучили тревога, тревога необычайного и непредвиденного, и детский страх одиночества. Странно… Все это путешествие решилось вдруг как негаданное радостное событие, но слабое его сердце было тревожно, и он, унизительно, неестественно возбужденный, всю ночь пытался за кого-нибудь зацепиться, но, как всегда, все невесело, подозрительно сторонились его, и только Безобразов терпеливо — как дождь — переносил его несвязные речи, ибо Олег до позора не умел ничего скрывать. Все рвалось у него с языка, как моча у пьяного, теряя притом вкус и цвет; он сам страшно страдал, стыдился своей сообщительности, но она была прямым следствием, аспектом страха, невозможностью вынести самого себя и жизнь, перенести драгоценную тяжесть, подземное слоновое напряжение одиночества. И скоро, сам того не желая, Безобразов узнал всю историю поездки: и о мистическом кружке, и о самоубийстве Кумарева, и о встрече Нового года в полуосвещенном ателье, где в одну ночь порвалась старая Олегова жизнь и началась эта, новая, незнакомая, слишком для него реальная, для него, который столько лет просидел за мраморным грязным столиком, как бледнолицая гадалка над холодной кофейной гущей, в ранней грусти — старости не жившего еще существа. Но напрасно Олег, рассказавший так много, искал на лице Безобразова отблеск ответа, суждения, осуждения, какого-нибудь отношения ко всему этому. Аполлон, слушавший, кстати, с большим профессиональным интересом, ответа дать никакого не мог, потому что, по своему обыкновению, думал медленно, отказываясь думать, судить, вмешиваться, но грубого, спокойного-добродушного внимания у него было сколько угодно — он курил, надвигал фуражку на глаза, закладывал большие пальцы за ремень пояса и в дешевой своей фуфайке, до плеча обнажавшей его толстые руки, слушал, не глядя на собеседника, покачиваясь на каблуках в коридоре с таким спокойным воровским, цирковым, пролетарским видом, что все в поезде с неприязненным уважением посматривали в его сторону. Аполлон уже и в Париже был совершенно черен от загара и говорил только по-французски, что любил делать, жуя и растягивая слова с таким неподражаемым уличным парижским акцентом, что его определение самого себя, новое и очень ему нравящееся — «студент теологии», — совершенно сбивало с толку собеседника, только что долго с ним проговорившего о боксе, плавании, авиации. В отличие от Олега, Безобразова как-то сумрачно, сдержанно, скрытно опьяняла новизна обстановки — он бросился в эту поездку, как в воду, сжавши мускулы и расширив ноздри, как в драку с еще не виданным им, но сразу угаданным противником — величественно ослепительной красотой мира, юга, дачного счастья. Но и ему нужен был copain,[4] товарищ по приключениям, ибо оба они были городскими молодыми людьми, выросшими в дымной нищете эмигрантских кофеен, для которых эта поездка была совершенно необыкновенным событием. Но Безобразов скорее Олега ориентировался, как Тереза говорила про него: «Если уж этот захочет вмешаться в жизнь, то никогда не будет без денег», — грустно, презрительно улыбаясь при этом.
Теперь они среди полуденного великолепия сидели на маленькой пересадочной станции и, как солдаты, степенно курили рядом со своими вещами, которые у Безобразова были по-тюремному связаны вместе ремешком: чемодан и тючок, — и он жестом носильщика перебрасывал один из них через плечо и нес в равновесии, к огорчению местных людей, привыкших смотреть на приезжих как на свою законную собственность, и те с явным недоброжелательством провожали его глазами; но Аполлон Безобразов разворачивался в недоброжелательстве, как рыба в воде, он даже снял фуражку и вместе с пиджаком сунул в чемодан, по-каторжному оставшись в одном полосатом тельнике.
Станция, утонувшая в солнечном оцепенении, была одноэтажная, и все окна ее были закрыты ставнями, так что казалась она необитаемой, и только часы на ней жили деловито-грозной железнодорожной жизнью, а кругом были какие-то плоские сады и рельсовые пути, заросшие дикой травой, и явственно слышалась, казалась видимой, руками осязаемой полдневная тишина — после грохота города, к которому так хорошо привыкаешь, как к шуму соседнего водопада в Финляндии, так что, кажется, глохнешь первые дни в деревне, — а за тишиной, медленно и равномерно подчеркивая ее, пыхтел какой-то невидимый паровозик, отдыхая под парами. Водоналивная башня, «водяной замок», неподвижно являла на солнце свои окна без стекол, и уже во всем чувствовалось невидимое море — и в низких скрюченных соснах, и в розовом гравии платформы, в конце которой, слегка колыхаясь, спал матросский воротник. Оно было где-то рядом, широкошумное и ослепительное, и Аполлон Безобразов ждал его, ухмыляясь и выкатывая плечи, в то время как Олег тревожно думал о Тане и о том, как он будет выглядеть в купальном костюме.
Вспоминал Олег также свое первое столкновение с его найденным наконец и мгновенно угаданным хозяином, когда молчаливо и неподвижно она так долго в упор посмотрела на него из полуопущенных ресниц татарских своих глаз на этом несчастном Новом годе, когда, устроившись около ее кресла и держа, поднимая ее тяжелые желтоватые античные руки, он рассказывал всю свою жизнь — занятие, в котором для него не было ничего нового, но на этот раз таки нашла коса на камень, он не встретил никакого особого сочувствия и замолчал, пораженный грубой и мучительной силой неподвижного и презрительного взгляда широко расширенных жадных глаз, и так это было ново для него, привыкшего к болезненной материнской нежности еврейских женщин, что он вдруг понял, что его слабая душа, не зная того, всю жизнь втайне боготворила только силу сдержанности, молчание, высокомерие, судьбу, судью в любимом человеке и что в Тане это соединялось, на его горе, со столь мягко-тяжелыми, женственными плечами, со страшной силой, никогда еще не вырывавшейся наружу жизни, с затаенной бесконечностью тепла и жестокости.