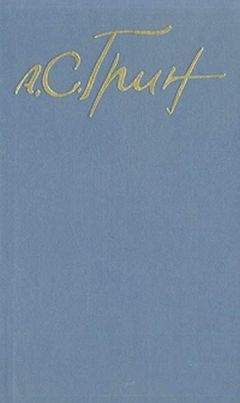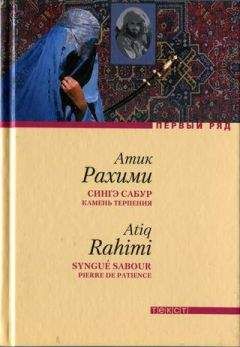Часы пробили два. Нервная городская ночь, просветлевшая до возможности отчетливо, как днем, различать предметы, торопилась изжить себя, перегорев в белых, без лучистого света, извилистых плоскостях рек и каналов. У Рылеева от напряжения и тоски звенело в ушах; прекратившись, звон этот раздался в углах торопливым, невнятным шепотом. Казалось, ожили к неподвижной, безглазой жизни мебель и книги, стены и занавески; все, что находилось здесь, потянулось друг к другу, шепчась секретно, меланхолически, шепотом наполняя воздух, и даже воздух, не вынося бессонных человеческих глаз, беззвучно шептал тенями странных слов крики, мольбы, угрозы, нежные клятвы, предостережения, жалобы. Погруженный в их торопливый мир, Рылеев сидел долго, опустив голову. Все уже передумал он; а все вертелась по огненному кругу мысль, одна и та же, об одном и том же, пока не стало ясным совсем, что не может быть примирения, что жить без Лизы он не может и не хочет.
Рылеев вырос в той думающей готовыми, приличными и культурными мыслями среде, которую принято называть интеллигенцией. В среде этой по отношению к любви господствовал умный, бесполый на нее взгляд: признавалось, что чувство любви свободно; что уважать свободу любви необходимо, если уважаешь человеческую личность; что тот, кого разлюбили, должен отнестись к этому внешне спокойно, не ревновать и не стараться силой ли, хитростью или страстью завоевать вновь потерянные отношения. Однако самоубийство не то что допускалось, а смотрели на него сквозь пальцы: «Неумный это был человек — и погиб». Ревность же, действительный признак силы и глубины любви, старались выставить стадным, животным пережитком. Так же относился ко всему этому и Рылеев; не раз слушая нежные голоса, твердившие беззвучно ему о возвышенности его любви, думал он, что, если возлюбленная его полюбит другого, не станет он мешать ее счастью, а отойдет и будет велик жертвой своей и, молча страдая, полюбит любовь к другому.
Все это исчезло, как будто и не было его никогда.
«Моя!» — твердила закипавшая кровь, а интеллигент в Рылееве, отойдя к сторонке, стоял растерянно. «Не может быть иначе, не будет этого, я не хочу!» — сказал Рылеев и тут же подумал, что у соперника должны быть насмешливые глаза; глаза эти издалека смотрели на него, обвеянные женской страстью.
В комнате, от падающих из-за реки и бледных, но уже веселых лучей было совсем по-дневному. Успокоенный главным решением, принятым бессознательно еще в библиотеке, бросившим его случаю и человеческой воле, Рылеев тяжело задремал.
Проснувшись с горьким вкусом во рту и сразу же, по воспоминании о происшедшем, возбуждаясь так, что похолодели руки, он увидел пустую кровать Гоголева, часовую стрелку на двух и тепленький самовар. Не одеваясь, Рылеев выпил стакан холодного чаю, завалил комнату бельем, книгами, нужными в дороге вещами и, собрав чемодан, оставил на столе Гоголеву половинные за квартиру деньги. С собою он брал все, что было накоплено для жизни с Лизой: четыреста двенадцать рублей. Потом, одевшись, постоял немного на одном месте, сел и написал записку сожителю:
«Я приеду через неделю, не думайте ничего особенного».
Сделав это, прошел мимо переставшего от удивления что-то жевать швейцара и крикнул извозчика. Швейцар вышел на тротуар.
— Ехать изволите? — сказал он, смотря главным образом на чемодан.
— Да, — ответил Рылеев, — я на один день.
Говорить ему было противно и трудно. Швейцар поддержал Рылеева за локоть и поместил чемодан удобнее, чем это сделал извозчик. Рылеев дал рубль швейцару, а тот, сняв фуражку, блеснул лысиной.
Извозчик дернул вожжами. Прекрасный, полный воздушного огня, день весело и деловито развернулся вокруг Рылеева, но от света, движения уличной толпы и жидкого лязга подков извозчичьей клячи Рылеев еще острее почувствовал, как чужда, до неведомого исхода страдания, сделалась ему жизнь.
IIНочью, после того, как вернувшийся из гостей Гоголев (Рылеев не был у Мурминых) съел, зевая, остатки сыра и колбасы, рассказывая набитым ртом, что, в сущности, Мурмины милы, но старомодны, Рылеев уснул тяжелым, полным стремительных, грозных образов, сном, во сне стонал и, неожиданно для себя, словно его ударил тотчас же спрятавшийся неизвестно куда враг, проснулся около двух. Было темно, тихо, в темноте шептали стенные часы, а на стекле окна, как нарисованная, обозначилась белесоватым зигзагом пленка зари.
Еще не помнившийся, растирая левую сторону груди, где, стесненное, болезненно колотилось сердце; Рылеев сел, потянул рукой одеяло, собираясь снова заснуть, но вспомнил вчерашний день, письмо и выпрямился; сон исчез, полная работа сознания остановилась на том, чему отныне всегда могло быть только одно имя: горе. Рылеев привык думать о своей любви и окончательном соединении с любимой девушкой, как о таком жизненном положении, которое не властны изменить ни он сам, ни она, ни какие-либо посторонние силы. Дремлющий, как у большинства людей, дух его спокойно относился к будущему: спокойно любил Рылеев, думая, — так как мы склонны переносить чувства свои на других, — что и он любим тоже спокойно, тихо, сильно и верно.
План Рылеева был такой: заработать побольше к осени денег, написать Лизе, что все устроено, что они могут жить вместе, не опасаясь нужды. Лиза жила в далеком провинциальном городе, где, мыкаясь в поисках заработка, случайно познакомился с нею Рылеев; она служила в транспортной торговой конторе. Ей шел теперь двадцать второй год, она была роста несколько выше среднего, красивая девушка с темными тяжелыми волосами: исключительно женственных очертаний стройная фигура ее, высоко поставленные брови и темный разрез глаз всегда мысленным портретом стояли перед глазами Рылеева. Сидя на кровати, обхватив руками колени и легонько покачиваясь, словно ритм этих маятникообразных движений мог успокоить хаос разоренного чувства, Рылеев почти физически слышал и понимал, как прежняя спокойная, элегическая влюбленность его перерождается в тоскливый недуг страсти, ревнивой и беспомощной, более мучительной от тех самых интимных воспоминаний, которые еще недавно он назвал бы светлыми.
В письме, оставившем по себе такое чувство, как будто бы двое суток подряд сильно болела голова, но боль прошла, сменившись нервной слабостью и дрожью рук, — в этом письме не было ничего, что прямо указывало бы на личность соперника, похитившего любовь женщины. Тем не менее Рылеев чувствовал этого другого так ясно, как если бы тот дышал ему прямо в лицо. Навязчивые представления овладели им. Ужасаясь и возмущаясь, Рылеев видел Лизу радостно отдающейся другому, а подробности представлений — для себя только волнующие — по отношению к невидимому сопернику казались страшным цинизмом.
Часы пробили два. Нервная городская ночь, просветлевшая до возможности отчетливо, как днем, различать предметы, торопилась изжить себя, перегорев в белых, без лучистого света, извилистых плоскостях рек и каналов. У Рылеева от напряжения и тоски звенело в ушах; прекратившись, звон этот раздался в углах торопливым, невнятным шепотом. Казалось, ожили к неподвижной, безглазой жизни мебель и книги, стены и занавески; все, что находилось здесь, потянулось друг к другу, шепчась секретно, меланхолически, шепотом наполняя воздух, и даже воздух, не вынося бессонных человеческих глаз, беззвучно шептал тенями странных слов крики, мольбы, угрозы, нежные клятвы, предостережения, жалобы. Погруженный в их торопливый мир, Рылеев сидел долго, опустив голову. Все уже передумал он; а все вертелась по огненному кругу мысль, одна и та же, об одном и том же, пока не стало ясным совсем, что не может быть примирения, что жить без Лизы он не может и не хочет.
Рылеев вырос в той думающей готовыми, приличными и культурными мыслями среде, которую принято называть интеллигенцией. В среде этой по отношению к любви господствовал умный, бесполый на нее взгляд: признавалось, что чувство любви свободно; что уважать свободу любви необходимо, если уважаешь человеческую личность; что тот, кого разлюбили, должен отнестись к этому внешне спокойно, не ревновать и не стараться силой ли, хитростью или страстью завоевать вновь потерянные отношения. Однако самоубийство не то что допускалось, а смотрели на него сквозь пальцы: «Неумный это был человек — и погиб». Ревность же, действительный признак силы и глубины любви, старались выставить стадным, животным пережитком. Так же относился ко всему этому и Рылеев; не раз слушая нежные голоса, твердившие беззвучно ему о возвышенности его любви, думал он, что, если возлюбленная его полюбит другого, не станет он мешать ее счастью, а отойдет и будет велик жертвой своей и, молча страдая, полюбит любовь к другому.
Все это исчезло, как будто и не было его никогда.
«Моя!» — твердила закипавшая кровь, а интеллигент в Рылееве, отойдя к сторонке, стоял растерянно. «Не может быть иначе, не будет этого, я не хочу!» — сказал Рылеев и тут же подумал, что у соперника должны быть насмешливые глаза; глаза эти издалека смотрели на него, обвеянные женской страстью.