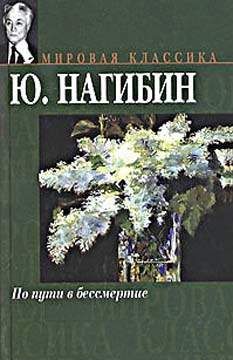- Ну что вы, Михаил Михайлович! - взметнулся Поляновский. - Вы едва шагнули за шестьдесят.
- Это не мало. А для меня - так и очень много. Я живу сейчас чужую жизнь. Ведь я вроде той пробки, которую вы каким-то чудом извлекли. У меня больные легкие, ни к черту не годное сердце и сосуды. В мировую войну я был отравлен газами, в гражданскую - навсегда испортил пищеварение. Я тяжелый невропат. У меня была нелегкая жизнь. Я никогда не думал, что доживу до старости, хотя очень хотел дожить. Мне казалось интересным побывать во всех возрастах. Я поставил себе такую цель и добился ее. Старость очень интересная пора, я испытал ее и могу спокойно уходить. Поверьте, это не рисовка. Вот сидит старик, пьет коньяк, как гусар, в компании молодых людей, и старик этот я. Разве можно было вообразить такое четверть века назад? Я был полутрупом. Но я взялся за ум, сознательным и твердым усилием продлил свою жизнь. Теперь я спокоен.
- "Как на душе мне легко и спокойно!.." - очень музыкально пропел Поляновский.
Зощенко прислушался.
- Чье это?
- Шуберта.
- До чего хорошо... и до чего понятно... - Тонкой смуглой рукой Зощенко сам разлил коньяк по рюмкам. - В разное время разное может помочь человеку выжить. - Он говорил тихо, словно прислушиваясь к тому, что происходило внутри него, к слабой работе изнемогающего организма. - Но всему есть предел.
- А правда, что смех такая здоровая штука? - Поляновскому явно хотелось изменить настрой встречи.
- Понятия не имею, - пожал плечами Зощенко.
- Я был однажды на вашем авторском вечере в Политехническом музее... Две рюмки коньяка вернули мне дар речи. - Евгений Петров так смеялся, что падал со стула. И я подумал тогда, что он очень здоровый и счастливый человек.
- Я помню этот вечер, - сказал Зощенко. - Ильф тоже хорошо смеялся, просто у него был другой смех - в себя. К сожалению, это не прибавило ему здоровья.
- А сами вы ни разу не улыбнулись. Удивительно, как вам это удается.
- А я отсмеиваюсь, пока пишу. Хохочу буквально до упаду, до слез. И потом мне уже не смешно. У меня где-то есть об этом.
- Да, - вспомнил я и вдруг перестал верить искренности его признания.
Уж слишком серьезным, до печали серьезным было его лицо, оно не годилось для смеха. Ну, для улыбки - куда ни шло, морщинки в углах тонкогубого рта были следами улыбок его шестидесятилетней жизни, но представить себе его хохочущим невозможно.
- Вы как-то сказали мне по телефону, что Майю Лассила помог вам уцелеть, - вспомнил Поляновский. - Это ваши буквальные слова. Я думал, что вы имели в виду его юмор.
- Нет, свою переводческую работу...
- В первом издании не было указано фамилии переводчика.
- Какое это имеет значение? - пожал плечами Зощенко. - В тех жизненных обстоятельствах важно было что-то делать, зарабатывать на жизнь. Я взялся бы за что попало, но мне достались вещи на редкость талантливые, особенно "За спичками". Радостно талантливые и бодрые... Нет, конечно, Лассила помог мне больше, чем я сейчас говорю. Странное животное человек: у меня недавно вышел однотомник - я сразу стал неблагодарным.
- А ведь все догадались, что это ваш перевод, - заметил я. - Там было клеймо мастера: портной Кеннонен, мотающийся по избе в одних подштанниках. Это типичный Зощенко.
- А я уже не помню. - Намек на улыбку тронул уголки губ.
Я сказал Михаилу Михайловичу, что иные его рассказы знаю наизусть, как стихи. Он принял мое признание не то чтобы холодно, но равнодушно, как любезное и ненужное преувеличение. Затем, переварив то, что представлялось ему неуклюжим комплиментом, сказал чуть неуверенно:
- Но сами-то вы пишете по-другому? - И тут же, что-то вспомнив, твердо добавил: - Вы многословны.
Покорно, со вздохом я подтвердил его правоту.
- Зачем вам это надо? - поморщился Зощенко. - Ведь есть пушкинская проза. Ничего лишнего, каждое слово на месте. Это ли не образец?
Я сказал, что читал его опыт в пушкинском роде. Там была зловещая шутка про старого патриота времен первой Отечественной войны, придумавшего страшную месть Бонапарту. Злодея надлежало изловить, посадить в клетку и лишить пищи - от голода он постепенно съест самого себя. Стилистически то был чистейший Пушкин "Капитанской дочки".
- Вот и пишите так... Если вам действительно знаком этот рассказ.
- Мне бы хотелось вернуться к Лассила, - вмешался Поляновский, которому показалось, что разговор становится для меня опасен.
- А что Лассила? - откликнулся Михаил Михайлович. - Отличный писатель: лаконичный, умный, насмешливый, точно знающий, чего хочет. Я сужу, правда, лишь по двум романам, которые переводил, остальное мне неизвестно. Он обожает путаницу, неразбериху, я - тоже, хотя мне почти никогда не удавалось устроить такую кутерьму, как в "Воскресшем из мертвых" или "За спичками". Был у меня, правда, рассказ про парусиновый портфель, да бог с ним... В жизни впрямь много путаницы, чепухи, диких совпадений, бессмыслицы, и Лассила был истинным поэтом самого невероятного вздора. Интересно, чему это соответствовало в нем самом? Случайным такое не бывает. Суворов любил вздор, это заметил Тынянов, но там все понятно, а вот Лассила. Я не в силах читать предисловий, но, насколько мне известно, в жизни он был человеком серьезным, трудным, ищущим, с радикальными политическими взглядами, за что поплатился жизнью. Если не ошибаюсь, его расстреляли в тюрьме на Свеаборге. Как-то не подходит юмористу? - Уголки губ чуть дрогнули усмешкой. - А может, наоборот, подходит? Мне хотелось больше узнать о Лассила, но не перешагнуть пропасти, именуемой финским языком.
Мы еще поговорили о Лассила, и у меня создалось впечатление, что у Михаила Михайловича просто не хватило душевных сил углубиться в сложную судьбу писателя, сыгравшего значительную роль в его собственной жизни. Слишком сильно ощущая драматизм своего положения и творя то высокое спокойствие, с каким он хотел встретить кончину, в близости которой не сомневался, видя себя насквозь, он не мог собраться для постижения чужой сути. Так, во всяком случае, мне казалось. То не было старческим эгоцентризмом в обычном смысле слова, но, умевший так органично сочетать глубокую погруженность в себя с живым любопытством к внешнему миру, редкой приметливостью к подробностям окружающего, Зощенко сейчас был целиком обращен внутрь.
И все же Лассила его не отпускал.
- Почему вы заинтересовались им? - спросил он.
- Наверное, это как-то связано с вами...
Я не договорил. Опять на лице его возникло то холодное, отчужденное выражение, которое уже раз мелькнуло, когда я сказал, что помню наизусть его рассказы. Только сейчас оно было отчетливей. Он не ждал доброго от людей, его слишком много предавали. Он был расположен к Поляновскому, верил ему и распространил на меня свое прохладное доброжелательство, но, столько раз ожегшись, не хотел "погорячее". Мне вспомнилось давнее.
Мой отчим, писатель Як. Рыкачев, был на том позорном сборище, когда Зощенко уничтожали в первый раз за незаконченную удивительную повесть "Перед восходом солнца". Особенно поразило отчима, что в числе хулителей Зощенко оказался Виктор Шкловский. Друг Маяковского, Мандельштама, Тынянова и всех "серапионов" представлялся отчиму, как и многим другим, человеком без стадного чувства, не участвующим в неопрятных играх своих коллег по дому на Воровского. Кстати, это ошибочное представление сохранилось до сих пор. А ведь, кроме публичного участия в разгроме Зощенко, за ним числится и такой пассаж. Когда "разоблачали" Б. Пастернака, Шкловский находился в ялтинском Доме творчества. Вместо того чтобы обрадоваться этому подарку судьбы и остаться в стороне от позорища, он вместе с другим трусом, Ильей Сельвинским, помчался на телеграф и отбил осуждающую автора клеветнического романа телеграмму. Сельвинский не поленился и поносные стишки тиснуть в курортной газете.
Потрясенный Зощенко сказал:
- Витя, что с тобой? Ведь ты совсем другое говорил мне в Средней Азии. Опомнись, Витя!
На что Шкловский ответил без всякого смущения, лыбясь своей бабьей улыбкой:
- Я не попугай, чтобы повторять одно и то же.
В конце разносного собрания, которое, как оказалось позже, было прикидкой куда худшего судилища, Зощенко сказал, глядя в бесстыдное лицо аудитории:
- Какие вы злые и нехорошие люди!
Поздно вечером я зашел к Асмусам по их просьбе и рассказал об этом собрании. У них в то время обитал Борис Леонидович Пастернак, их самый большой друг. Мы еще пережевывали подробности рассказа, когда из коридора, где находился телефон, послышался трубный голос Пастернака. Он кого-то честил с не свойственной ему резкостью за то, что его "осмелились пригласить на этот гнусный вечер". И неужели думали, что он примет участие в изничтожении замечательного писателя? И дальше в том же духе.
Красный и тяжело дышащий Пастернак вернулся в гостиную.
- Боречка, на кого вы так кричали? - спросила Ирина Сергеевна Асмус.