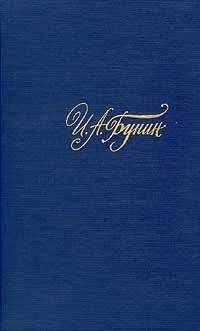Свежеет, и горы и холмы, овеваемые морским воздухом, принимают лиловые тоны. Босфор вьется, холмы впереди смыкаются — кажется, что плывешь по зеркально-опаловым озерам. Но вот эти холмы расступились еще раз, — и медленно принимает нас в свою флотилию великий город. Налево, на холмистых прибрежьях Малоазийских гор, пестрят в сплошных садах несметные кровли и окна Скутари. Направо, в Европе, громоздится по высокой горе тесная Галата с возвышающейся над ней круглой громадой генуэзской башни Христа. А впереди, на закате, единственный в мире силуэт Стамбула, над которым — копья минаретов и полусферы на султанских мечетях… При заходящем солнце, в тесноте судов, бригантин, барок и лодок, при стоголосых криках фесок, тюрбанов и шляп, качающихся на зеленой сорной воде вокруг наших высоких бортов, снова кидаем якорь. Ревут вокруг трубы отходящих пароходов, в терцию кричат колесные пакеботы, гудит от топота копыт деревянный мост Султан-Валидэ на Золотом Роге, хлопают бичи, раздаются крики водоносов в толпе, кипящей на набережной Галаты… Оттуда, из товарных складов, возбуждающе пахнет ванилью и рогожами колониальных товаров; с пароходов — смолой, кокосом и зерновым хлебом, сыплющимся в трюмы, от воды, взбудораженной винтами и веслами — огуречной свежестью… Солнце меж тем скрывается за Стамбулом — и багряным глянцем загораются стекла в Скутари, мрачно краснеет кипарисовый лес его Великого кладбища, в фиолетовые тоны переходит сизый дымный воздух над рейдом, и возносятся в зеленеющее небо печальные, медленно возрастающие и замирающие голоса муэззинов…
В старых святых городах Ислама для этих вечерних славословий еще до сих пор предпочитаются глашатаи-слепые: да не смущает их земная прелесть наступающей ночи! А те, которых Творец не лишил счастья зрения, закрывают в час изана глаза… Закрывают ли глашатаи константинопольские? Голоса их все же звучат великой печалью старины и пустыни. И я вспоминаю пыль и ветхость бревенчатого моста Валидэ, черные деревянные сараи возле него… Вспоминаю сгнившие в труху и почерневшие лачуги Стамбула, его развалины, тихие кофейни и кладбища… Потом гляжу на приземистый купол Софии, в котором есть что-то непередаваемо-древнее, как в куполе синагоги… Вижу, среди запущенного серальского сада, на берегу стамбульского мыса, остатки древних стен Византии и дворца Константина…
— Возвышается София над городом, как корабль на якоре! — говорили когда-то.
Теперь она осела, затерялась среди новых мечетей. Издалека она кажется даже небольшою. Не велик и дворец. Он из серого камня, прост, груб, как крепостная тюрьма, крыша на нем без выступа, окошечки узкие, высоко пробитые… И как чужд он всему — он и София — даже здесь, в старом Стамбуле!
Солнце закатилось, на турецких часах двенадцать — и меня постигает участь, подобная участи турецких женщин: женщинам нельзя после заката выходить из дому, путешественникам — вступать в город. Но, стоя возле борта и глядя вниз, на лодку афонских монахов, высматривающих, нет ли паломников, которым они дают приют на своих подворьях в Галате, я вдруг замечаю среди них знакомого, проводника-грека Герасима, и радостно кричу ему по-русски, по-гречески и по-арабски:
— Герасиме! Добрый вечер! Калиспера! Меса бель хайр!
Герасим поднимает кверху очки, ищет меня в толпе и не спеша — ему уже за сорок — улучает среди качки удобный момент, чтобы ухватиться за перила трапа.
Проводник мне не нужен, но не проберешься один после семи часов в город. И Герасим немедленно вступает в свои обязанности.
Бережно несет он под мышкой тяжелый черный зонт, с которым никогда не разлучается, бережно снимает черную шляпу и вытирает ситцевым платком свою большую коротко стриженную, серебристо-сизую голову… Жарко под черной шляпой! Но Герасим является на пароход всегда в шляпе, в бумажных отложенных воротничках и ветхом черном галстухе в виде летучей мыши…
III
Возле какой-нибудь маленькой, полуразвалившейся мечети в Скутари, — в этом старинном хане всех караванов Азии, — на каком-нибудь пыльном базаре, окруженном кофейнями, из которых несет чадом жаровен, облитых кипящим бараньим салом, и пестреют халаты толстых хозяев в больших тюрбанах, не редкость видеть грязно-грифельную груду верблюда и погонщика в еще большем тюрбане и овчинной куртке. На главной скутарийской улице есть кофейни почище, где так сладко мечтать за чашечкой кофе на длинных диванах в пестром ситце, тихо поглаживая спину кошки и опустив одну ногу в туфле, на пол, а другую, в чулке, поставив на сиденье. В переулках Скутари, среди пекарен, шорных мастерских и лавочек, заваленных медными болванами для глажения фесок, среди облезлых собак, скитающихся по пыли и ослиному помету, в жаркие и нежные дни ранней приморской весны цветут розовыми восковыми свечечками темно-зеленые платаны, из-за древних садовых стен снегом белеют цветущие плодовые деревья, глядит осыпанное кроваво-лиловым цветом голое иудино дерево…
— Селям! — ласково и сдержанно говорят сидящие под деревьями возле кофеен крупные старики в белых и зеленых чалмах, в меховых безрукавках и халатах, отороченных мехом. — Селям! — говорят они подходящим, легко и красиво касаясь груди и лба, и опять замолкают, отдаваясь дыму нергиле и спокойному созерцанию собак, туристов, ковыляющих женщин, закутанных в розовые и черные фередже, и медленно, важно качающихся на ходу горбунов-верблюдов.
И мне никогда не забыть сладкой, деревенской тишины Скутари, его стен, кладбищ, густых садов, запутанных переулков, где двухэтажные деревянные домики выступают над пешеходными тропинками серыми решетчатыми окнами. Сколько в этой сплошной садовой глуши, называемой Скутари, старых мраморных фонтанов, в хрустальной воде которых моют загорелые ноги странники, благословящие именем Бога и эту воду, и легкую весеннюю тень развесистого дерева над фонтаном, и дремотное жужжание пчел на цветущих абрикосах! Сколько там, в этой глуши, мечетей, на куполах которых растет трава, а внутри воркуют голуби! Сколько кладбищ, затерявшихся между садами, мечетями и стенами, сколько кипарисов с голыми стволами телесного цвета и могильных белых столбиков в чалмах и золотых надписях, где так мирно, ласково и с такой трогательной верой говорится о весенних радостях жизни, о холодных ветрах рока, о соловьях и розах в стране Блаженной!
Не то Галата. Недаром Галату называют помойной ямой Европы, сравнивают с Вавилоном, Содомом.
Среди несметных каиков, стоящих возле потемневших от воды и времени деревянных свай, я выхожу вслед за Герасимом на Галатскую набережную, отдаю паспорт турецкому чиновнику, сидящему в сарае таможни, и вступаю в Галату в тот час, когда замирают призывы муэззинов, день по закону Ислама кончается и лавки должны запираться.
Но какое дело до изана Галате!
По пыльной и ухабистой набережной, заставленной с одной стороны железными боками гигантов с разноцветными знаками на трубах, а с другой — сплошными кофейнями, шумными и уже ярко освещенными, непрерывно текут навстречу друг другу потоки разноязычного народа. Зеленоватое небо еще светло над темным и четким восточным силуэтом Стамбула, над сиренево-стальной водой и над шестами мачт в Золотом Роге. Но над набережной и над рейдом уже висит опускающийся книзу дым, пыль и сумрак. Между носами и кормами пароходов я вижу темную Скутарийскую гору, засыпанную роями огненно-золотых пчел. Тысячи самоцветных камней — крупных изумрудов, брильянтов и рубинов — рассеяны по кораблям темнеющего рейда. Бледные топовые огни, как лампадки, высоко висят на всех мачтах возле набережной. Но это уже огни ночного отдыха. Совсем другими огнями горят раскрытые настежь окна и двери в галатских домах, в кофейнях, в табачных и фруктовых лавочках, в парикмахерских. Сколько тут этих огней, сколько народа, играющего в кости, в шашки, пьющего виски, мастику, кофе и воду и занявшего своими табуретами, кальянами и столиками половину набережной! От тесноты, от запаха цветов, пыли, сигар и жаровен, на которых уличные повара подшкваривают кофейные зерна, кебаб и лепешки, воздух зноен и душен. Из вторых этажей домов, из освещенных окон несутся звуки граммофонов, дешевых пианино. В толпе, текущей по набережной, раздаются бешено-сиплые басы водоносов, звонкие альты чистильщиков сапог и продавцов газет, сладкие тенора греческих кондитеров, хлопают бичами худые черномазые извозчики в фесках и пыльных пиджаках. И по всем лицам и разноцветным одеждам то и дело легкими гигантскими взмахами проходят светлые столпы прожекторов: один за другим бегут шумные колесные пакеботы, переполненные народом, с загородных гуляний…
IV
Ночь я провожу в одном из афонских подворий, близ набережной Галаты.
Поздним вечером покидаю я набережную и вхожу в узкие проходы между высокими домами.