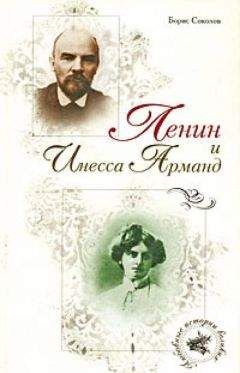Но что же такое «любить»? Страшный вопрос, который задает себе Митя. Он и сам не находит ответа, да, пожалуй, не знает его даже автор – Иван Алексеевич Бунин. Над этой же проблемой бился приятель Бунина – Александр Иванович Куприн. Его повесть «Гранатовый браслет» часто воспринимается как гимн жертвенной, безответной любви. Возможно, что сам Куприн в сознании своем выстраивал ее так же. Во всяком случае знаменитый рефрен «Да святится имя Твое» позволяет нам высказать такое предположение. Но Куприн был сам личностью отнюдь не платонического толка и понимал, как страшно любовь может изуродовать человека. Вспомним два рассказа генерала Аносова, приятеля отца героини повести: об офицерах, ставших жертвами женщин, которых принято называть «вамп». Слово это пришло из названия стихотворения Редьярда Киплинга «The Vampire». На русский язык его перевел Константин Симонов, озаглавив – «Дурак». Он имел на это право, поскольку и оригинал начинается упоминанием о дураке: «А fool there was…» («Жил-был дурак…») Английский поэт рассказывает о человеке, которому выпала нелегкая участь влюбиться в женщину, сосавшую из него все силы. «Что дурак растранжирил, всего и не счесть, // (Впрочем, как вы и я) // Будущность, веру, деньги и честь, // Но леди и больше могла бы съесть, // А дурак на то он дурак и есть // (Впрочем, как вы и я)…»
Рассказы о таких дураках и предлагает нам Куприн в первой части повести. А тогда напрашивается резонный вопрос – не выступает ли в роли третьего дурака сам Желтков? Он посвятил свою жизнь женщине, которая и смотреть на него не может, и слышать о нем не хочет. Слишком неравны социальные роли обоих. Княгине Вере поначалу даже тягостно внимание постороннего человека. Ведь оказывает ей знаки внимания не великий князь, а – мелкий чиновник. И сам гранатовый браслет – символ великой любви – в глазах ее мужа и брата выглядит только безвкусной поделкой: «этот идиотский браслет… эта чудовищная поповская штучка…».
Куприн убивает своего Желткова, поскольку никакого развития эта история получить не может. «Дурак не приставил к виску ствола…» – радовались за своего персонажа Киплинг и Симонов. Но чтобы остаться живым в трудной ситуации, нужны силы едва ли не большие, чем для самоубийства. Влюбленный кончает с собой, якобы растратив казенные деньги. А у княгини Веры остается воспоминание о чем-то великом: «Любовь, о которой мечтает каждая женщина, прошла мимо нее…» Конечно, она сожалеет, она расстроена, но поглядим на вещи реально: разве могли бы сблизиться титулованная дама и невзрачный служащий? Что случается с людьми, даже равными, которые решаются осуществить эту великую любовь, наглядно показал Лев Толстой в романе «Анна Каренина».
Нет, персонажам русских повестей любовь приносит одни несчастья. Полюбив, они умирают, подобно рабу из стихотворения Гейне. А возможна ли любовь большая и вечная? Современный писатель Фредерик Бегбедер утверждает, что любовь живет только три года. Так называется одна из его книг. Подход, безусловно, не романтический. Герои знаменитых романов добивались желанного предмета и намеревались жить с ним долго и счастливо. Однако Николай Гоголь пытается показать нам способ существования людей, безусловно влюбленных друг в друга. Но, чтобы сохранить свою жизнь, оба они закрылись от мира. «Ни одно желание не перелетит через частокол…» – замечает автор. Виссарион Белинский поначалу смотрел на гоголевских персонажей едва ли не с отвращением. Мелкие чувства довлеют этим людям, никакое общественное движение их не увлечет. Потому, мол, они и могли жить до старости в безмятежном довольстве. Но не к тому же стремились и все романтические герои? Вспомним знаменитые романы: «Черная стрела» Роберта Стивенсона и «Квентин Дорвард» сэра Вальтера Скотта. Джоанна Сэдли и Дик Шелтон в одной книге, Квентин Дорвард и Изабелла де Круа в другой, лишь только соединившись, тут же скрываются в фамильных поместьях, забыв и о герцоге Глостерском, и о короле Людовике Одиннадцатом. А не может быть так, что повесть Гоголя изначально была задумана как сатирический отклик на современный ему романтизм? Мол, посмотрите, уважаемый брат – читатель, какая участь ждет героев, которым вы сопереживали и сочувствовали; какие розы им уготовил греческий бог брака. Потому-то, можем заключить мы, и чеховский художник не решился отправиться на поиски Жени, а только вздыхал: «Мисюсь, где ты?»
Спустя столетие в русской литературе снова появились романтически настроенные люди, заключавшие жизнь персонажа героической смертью. О ничтожных людях они писать не хотели, а свести в одну пару две сильные натуры им не позволяла совесть художника. Не только в дружбе, но и в любви один оказывается рабом другого. Что же делать, если никто не хочет покориться? Тогда-то Максим Горький в рассказе «Макар Чудра» заставляет Лойко Зобара зарезать гордую красавицу Радду, а после этого убивает героя… Но если двое хотят дожить вместе до естественного конца, им приходится смирять себя, снижаться до уровня старосветских помещиков. Может быть, в подобном смирении и состоит мудрость житейская…
Владимир Соболь
Иван Алексеевич Бунин Митина любовь
…В Москве последний счастливый день Мити был девятого марта. Так по крайней мере казалось ему.
Они с Катей шли в двенадцатом часу утра вверх по Тверскому бульвару. Зима внезапно уступила весне, на солнце было почти жарко. Как будто правда прилетели жаворонки и принесли с собой тепло, радость. Все было мокро, все таяло, с домов капали капели, дворники скалывали лед с тротуаров, сбрасывали липкий снег с крыш, всюду было многолюдно, оживленно. Высокие облака расходились тонким белым дымом, сливаясь с влажно-синеющим небом. Вдали с благостной задумчивостью высился Пушкин, сиял Страстной монастырь. Но лучше всего было то, что Катя, в этот день особенно хорошенькая, вся дышала простосердечием и близостью, часто с детской доверчивостью брала Митю под руку и снизу заглядывала в лицо ему, счастливому даже как будто чуть-чуть высокомерно, шагавшему так широко, что она едва поспевала за ним.
Возле Пушкина она неожиданно сказала:
– Как ты смешно, с какой-то милой мальчишеской неловкостью растягиваешь свой большой рот, когда смеешься. Не обижайся, за эту-то улыбку я и люблю тебя. Да вот еще за твои византийские глаза…
Стараясь не улыбаться, пересиливая и тайное довольство, и легкую обиду, Митя дружелюбно ответил, глядя на памятник, теперь уже высоко поднявшийся перед ними:
– Что до мальчишества, то в этом отношении мы, кажется, недалеко ушли друг от друга. А на византийца я похож так же, как ты на китайскую императрицу. Вы все просто помешались на этих Византиях, Возрождениях… Не понимаю я твоей матери!
– Что ж, ты бы на ее месте меня в терем запер? – спросила Катя.
– Не в терем, а просто на порог не пускал бы всю эту якобы артистическую богему, всех этих будущих знаменитостей из студий и консерваторий, из театральных школ, – ответил Митя, продолжая стараться быть спокойным и дружелюбно небрежным. – Ты же сама мне говорила, что Буковецкий уже звал тебя ужинать в Стрельну, а Егоров предлагал лепить голую, в виде какой-то умирающей морской волны, и, конечно, страшно польщена такой честью.
– Я все равно даже ради тебя не откажусь от искусства, – сказала Катя. – Может быть, я и гадкая, как ты часто говоришь, – сказала она, хотя Митя никогда не говорил ей этого, – может, я испорченная, но бери меня такую, какая я есть. И не будем ссориться, перестань ты меня ревновать хоть нынче, в такой чудный день! Как ты не понимаешь, что ты для меня все-таки лучше всех, единственный? – негромко и настойчиво спросила она, уже с деланной обольстительностью заглядывая ему в глаза, и задумчиво, медлительно продекламировала:
Меж нами дремлющая тайна,
Душа душе дала кольцо…
Это последнее, эти стихи уже совсем больно задели Митю. Вообще, многое даже и в этот день было неприятно и больно. Неприятна была шутка насчет мальчишеской неловкости: подобные шутки он слышал от Кати уже не в первый раз, и они были не случайны, – Катя нередко проявляла себя то в том, то в другом более взрослой, чем он, нередко (и невольно, то есть вполне естественно) выказывала свое превосходство над ним, и он с болью воспринимал это как признак ее какой-то тайной порочной опытности. Неприятно было «все-таки» («ты все-таки для меня лучше всех») и то, что это было сказано почему-то внезапно пониженным голосом, особенно же неприятны были стихи, их манерное чтение. Однако даже стихи и это чтение, то есть то самое, что больше всего напоминало Мите среду, отнимавшую у него Катю, остро возбуждавшую его ненависть и ревность, он перенес сравнительно легко в этот счастливый день девятого марта, его последний счастливый день в Москве, как часто казалось ему потом.
В этот день, на возвратном пути с Кузнецкого моста, где Катя купила у Циммермана несколько вещей Скрябина, она между прочим заговорила о его, Митиной, маме и сказала, смеясь: