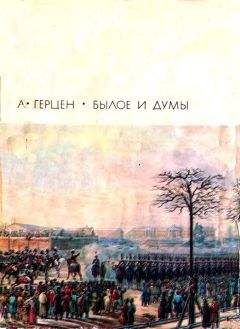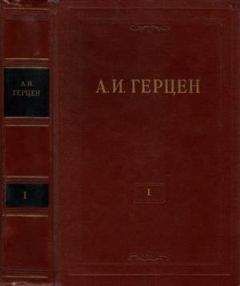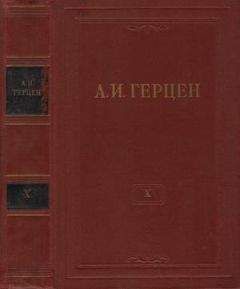Для Герцена собственная жизнь и идейная борьба эпохи нераздельны. Его путь — от отрочески беззаветного сочувствия декабристам и их делу до трудных раздумий последних лет, в период выступлений I Интернационала и в канун Парижской коммуны — это путь исканий истинной революционной теории и передовой науки.
Горький нашел замечательные слова, сказав, что Герцен «представляет собою целую область, страну изумительно богатую мыслями»[1].
В «Былом и думах» мы как бы видим путника в такой стране идей. С замечательной научной требовательностью, выработавшейся в школе классической немецкой философии, и с глубокой революционной чуткостью проникает этот неутомимый искатель и исследователь в глубь идей своего времени. Но проникает не толкаемый любознательностью только, не интеллектуальной забавы ради, как многие столь иронически очерченные им дилетанты от науки, не школярски, не подражательно.
Это человек, развивающий и творящий мысль, вновь и вновь проверяющий ее и испытывающий себя, постоянно идущий вперед и ускоряющий умственное движение своей родины и своего времени. Мысль Герцена овеяна волнением и страстью, живым человеческим чувством, в ней бьется горячее сердце, ощущается размах революционной мечты и фантазии.
Через все встречи с идеями и их носителями, через духовные коллизии и споры перед нами раскрывается мужающая и растущая мысль самого Герцена. Мы видим, как он, пусть со срывами и колебаниями, прокладывает свой выстраданный путь к научному социализму. Он не дошел до него, но опыт Герцена имел огромное значение для русской передовой мысли, для ее будущего. Герцен ясно сознавал свою роль и роль своих друзей и соратников в тех поисках правильной революционной теории, которые, как указывал Ленин, начались в России в 40-х годах.
«Былое и думы» — роман о русском революционном мыслителе, достойно и гордо представлявшем Россию на форуме международных революционных, научных и литературных сил. Не случайно Ленин писал о Герцене: «В крепостной России 40-х годов XIX века он сумел подняться на такую высоту, что встал в уровень с величайшими мыслителями своего времени»[2].
В «Былом и думах» Герцен выступает как художник, для которого борение собственной мысли, ее движение и противоречия, надежды и сомнения, иллюзии и разочарования, страстные мечты и не менее страстный скептицизм стали полным драматизма предметом высокого искусства.
И средствами искусства Герцен воплотил здесь ту высоту, которую русская мысль, его собственное мировоззрение достигли в 40-х годах. Именно этот период наложил свой отпечаток на все творчество писателя, и, в частности, на «Былое и думы».
С этим временем, с его заветами Герцен чувствовал себя связанным всю жизнь, ибо тогда «…сложилась, окрепла та мысль борьбы, которой мы остались верны»[3], — писал он в 1862 году.
Можно сказать, что в «Былом и думах» отразилась весна русской передовой мысли, русской революционной теории, сила ее юности, радость ее первых и уже замечательных открытий и побед. Здесь весь мир как бы проникается и озаряется этой мыслью, которая, овладевая буднично-повседневным и бытовым, различными путями и средствами побеждает его.
Конечно, чем дальше повествование в «Былом и думах» удаляется от юности и переходит к тем духовным испытаниям, которые выпали на долю Герцена после поражения революции 1848 года и в 60-х годах, после нового наступления самодержавно-помещичьей реакции, тем больше в «Былом и думах» проступают краски осени, ноты грусти и печали. Но хочется сказать словами Тютчева, поэта, при всех коренных мировоззренческих отличиях во многом по глубине и остроте ощущения духовных сдвигов и драм той эпохи близкого Герцену, что и тогда
Вдруг ветр подует, теплый и сырой,
Опавший лист погонит пред собою
И душу нам обдаст как бы весною…
В «Былом и думах» нашла живое воплощение и такая черта русской передовой мысли, как органическое сочетание глубокого патриотизма, истинной национальной гордости со способностью ценить высокие достоинства национальных характеров других народов, вдумываться в их исторический, политический, духовный опыт.
По рельефности и тонкости воспроизведения черт и красок, присущих другим народам и нациям, Герцен в русской литературе XIX века следует непосредственно за Пушкиным.
Таковы некоторые основные линии художественного исследования, художественного мышления Герцена в «Былом и думах». Но как двигается его художественная мысль, каков ее склад, манера и «повадки»; иными словами, каков стиль этого произведения?
Обычно при характеристике стиля «Былого и дум» ссылаются на слова Герцена из письма к Тургеневу, восхищавшемуся этим произведением. По словам Герцена, его призвание, его жанр «…это просто ближайшее писание к разговору — тут и факты, и слезы, и хохот, и теория и я… делаю из беспорядка порядок единством двух-трех вожжей очень длинных…» (XXVI, 60).
Герцен совершенно прав в таком определении своего стиля. Он действительно писал, как говорил. Поэтому в его рукописях почти не найти стилевых вариантов, а встречаются главным образом смысловые.
Но понятие «ближайшее писание к разговору» требует пояснений. Ссылка на непринужденность герценовского стиля явно недостаточна.
Благодаря тому что в мыслях, устах и под пером Герцена русская революционная теория цвела первым цветом и впервые действенно помогала открывать и понимать целый мир, она с удивительной естественностью сопрягается с непосредственным восприятием жизни в ее самых старых и вечно юных чертах и красках. Оперируя столь разнородными материалами, стиль Герцена как бы передает одному из них качество другого. «Теория» приобретает черты непосредственности, — иначе думать, говорить, писать Герцен и не мог, а вечное, общечеловеческое и каждодневное предстает освещенное, углубленное и обобщаемое этой теорией.
Герцен пишет, например, в начале XXV главы, вспоминая о «той простой, глубокой внутренней жизни», которой характеризовалось пребывание во Владимире после женитьбы:
«Юность невнимательно несется в какой-то алгебре идей, чувств и стремлений, частное мало занимает, мало бьет, а тут — любовь, найдено — неизвестное, все свелось на одно лицо, прошло через него, им становится всеобщее дорого, им изящное красиво, постороннее и тут не бьет: они даны друг другу, кругом хоть трава не расти!
А она растет себе с крапивой и репейником и рано или поздно начинает жечь и цепляться».
В этих строках даже трудно отделить друг от друга непосредственные впечатления, воссоздающие образ духовного склада юности, с ее пренебрежением к трудностям и самозамыканием в первом чувстве, от обобщающей, как бы философской характеристики этого склада при помощи таких понятий, как алгебра, отыскание неизвестного и т. д. В сущности, то и другое срослось нерасторжимо, и целое приобрело очарование глубоко своеобразной поэтичности.
Каждый большой писатель по-своему строит и объединяет создаваемый им художественный мир, как новое поэтическое единство. По-своему достигает единства своего мира и Герцен, делая, по его собственным словам, «из беспорядка порядок». Его стиль — особенно выпукло и многогранно эти качества выступают в «Былом и думах» — сплавляет в стройное и грациозное единство резко контрастирующие друг с другом элементы: чувственно-единичное и случайное с теоретическим обобщением; интимно-частное и общее с политическим; зачатки смутных эмоций с резкой мыслью; облик человека с его миросозерцанием; этические проблемы с черточками быта, нередко служащими ироническому снижению того или иного фразерства, той или иной риторики…
«Лики святых» революции и передовой мысли и иронически подсвеченные быстрые диалоги, драматические сцены и веселые анекдоты, лирические и философские отступления — все это и многое другое сменяет друг друга, ни в чем не нарушая органичности незаметных сцеплений.
В языке Герцена философские термины неразъединимо сплетаются с высокой поэтической лексикой, архаизмы — со смелыми неологизмами и просторечием.
Не раз было сказано о том, что одна из существенных черт герценовского стиля заключается в способности сближать при помощи сопоставлений разнородные предметы, поражать блеском и неожиданностью сравнений и метафор. И здесь невольно возникают параллели с лирической прозой Гейне, в чем-то несомненно родственной Герцену.
И все же, думается, суть герценовского стиля не в такой неожиданности и эффектности сравнений (как бы смелы они ни были), а быть может, еще в более удивительном даре достигать поэтической стройности и слитности в стилевом объединении, и, если угодно, «примирении» многих противоречащих друг другу элементов. Даже само строение великого произведения, писавшегося в течение более пятнадцати лет (1852–1868) и становившегося все более отрывочным, поражает своим внутренним единством, определяемым личностью писателя.