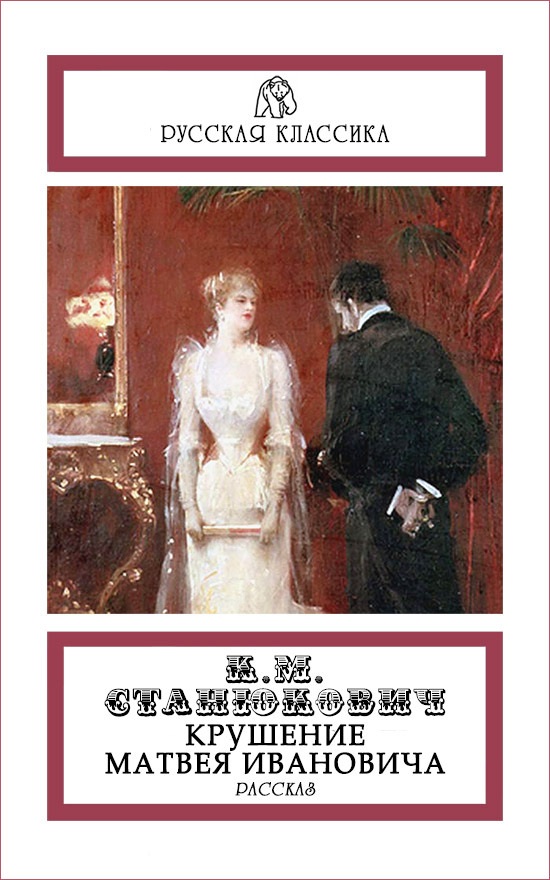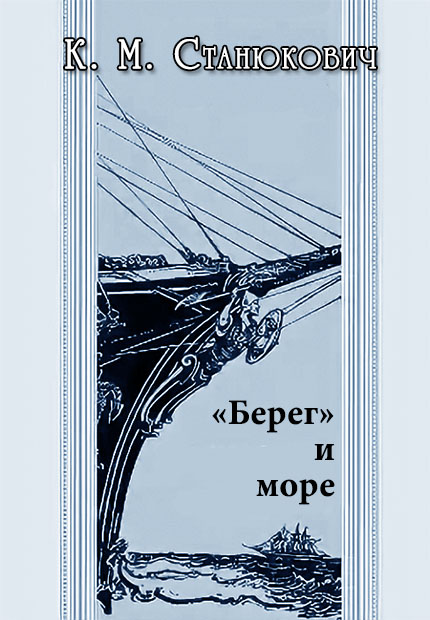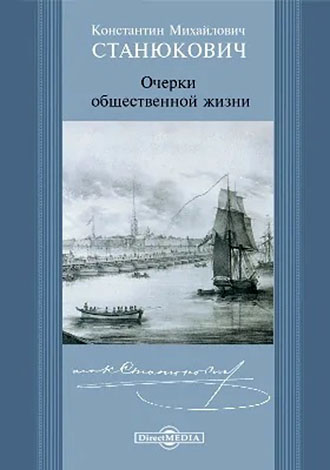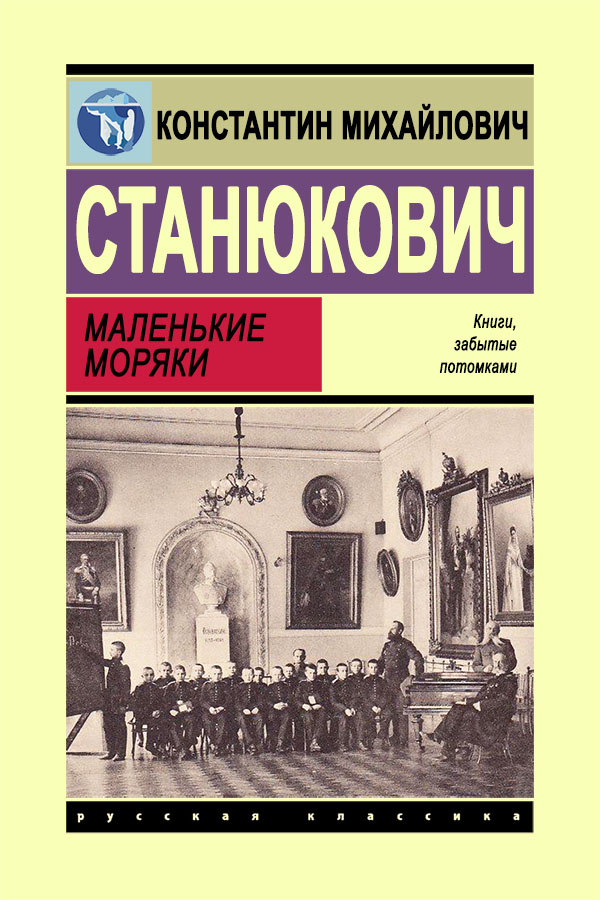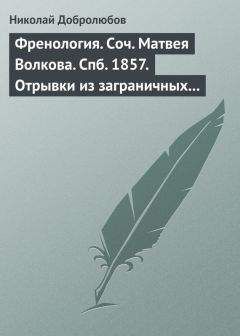с той же щепетильной аккуратностью, с какой прибиралось все в его квартире. На столе лежала открытая книга, но он не читал ее, а, откинувшись в кресле, казалось, погружен был в задумчивость. Мягкий свет лампы под зеленым абажуром захватывал его лицо. Оно было некрасивое, с грубыми, топорными и чересчур крупными чертами, но эта некрасивость скрашивалась выражением доброты и ума и той печатью «искры божьей», которая свидетельствует о душевной красоте человека. Оно было подернуто тихой грустью в эту минуту — это простое славное лицо, и большие серые глаза, мягкие и добрые, глядели куда-то перед собой. Мысли его, очевидно, витали где-то далеко, и мысли эти были, видимо, невеселые.
— Доброго вечера, Матвей Иваныч!
Он встрепенулся, точно пробуждаясь от грез, взглянул, приставив широкую руку к глазам, в мою сторону и, узнав меня, поднялся с живостью молодого человека. Крепко пожимая руку, Матвей Иванович приветствовал меня с обычным своим радушием, проявляемым к людям, к которым он был расположен.
— Вот спасибо, что навестили старого медведя в его берлоге; несмотря на такую даль и подлейшую погоду… В море-то теперь свеженько, — вставил Матвей Иванович. — Спасибо, голубчик, — с чувством произнес старик своим громким, резким голосом, каким говорят по большей части много плававшие моряки. — Конечно, чай будем вместе пить?
— С удовольствием, если не помешаю вам.
— Как вы можете помешать? Какие такие у меня дела? — с горечью усмехнулся Матвей Иванович. — Разве что первого числа сходить в главное казначейство да получить восемьдесят семь рублей пенсии? Вот и всего-то моих дел… А вы: помешать! Очень рад, что заглянули… Ведь я один, постоянно один в своей берлоге… Мало, кто навещает… Родных, как вы знаете, ни души… Вот только племянница… Ну, забежит когда на четверть часа… Торопится… некогда… Лекции и все такое… И что ей-то, молодой, со стариком разговаривать? Скучно! Вы когда зайдете, да еще один, другой добрый знакомый, вот и всего…
— А вы разве нигде не бываете, Матвей Иваныч?
— Редко, где бываю, да, признаться, и не тянет в общество…
— Что так?
— Да везде всё одни и те же эти нынешние, знаете ли, разговоры о местах, назначениях, кто кому ножку подставил или собирается подставить, кто жалованье какое получает… разные там сплетни… Бог с ними… Да и у людей-то интересы нынче какие-то стали, как бы это сказать… низменные, что ли… Всё больше о пустяках заботятся… И старые, и молодые… Из-за карьеры друг дружке, кажется, горло готовы перервать… ну, и правил поэтому никаких нет… А ведь без них ежели жить, то и совсем нехорошо… Слушать-то все это и докучно… Ну, и сидим мы тут вдвоем с Егоровым… Он все чистотой занимается, а я больше почитываю… Вот и перед вашим приходом читал и, знаете ли, даже размечтался… Молодость вспомнил…
— А вы что читали, Матвей Иваныч?..
— Перечитывал одну хорошую старую вещь… «Дворянское гнездо», — после паузы проговорил он и вдруг как-то застенчиво взглянул на меня, несколько смущенный. — Не ожидали, что я на старости лет любовные истории читаю?.. Да, батенька, нехорошая женщина, вот как жена Лаврецкого, может такой шторм задать порядочному человеку с сердцем, что вся жизнь испортится! — прибавил в каком-то раздумье Матвей Иванович.
Я ничего не знал о сердечных тайнах Матвея Ивановича. Вообще очень откровенный со мной, он никогда, даже намеком, не касался этой интимной стороны своей жизни, и для меня всегда было загадкой, как такой человек, как Матвей Иванович, с кроткой, привязчивой душой, требовавшей любви, не обзавелся семьей и остался одиноким холостяком.
Этот грустный тон по поводу женщины, эти письма, которые разбирал, по словам Егорова, Матвей Иванович, и после которых захандрил, наконец, это застенчивое смущение после признания, что он перечитывал «Дворянское Гнездо», заставили меня подумать, что в жизни старого моряка была какая-нибудь серьезная, сердечная драма, о которой он вспомнил теперь в своем одиночестве.
— Нынче, впрочем, это как-то проще делается, — продолжал Матвей Иванович. — Полюбил, разлюбил, сошелся, разошелся… Эй, Егоров! — вдруг крикнул он, обрывая разговор.
Егоров, по старой своей привычке, почти бегом явился: на зов.
— Поставь-ка нам, братец, самовар, — приказал Матвей Иванович.
— Есть, вашескобродие! Ставлю.
— А коньяк у нас есть?
— Полбутылки, вашескобродие!
— Ну, этого нам за глаза хватит, — улыбнулся Матвей Иванович, который, сколько я его помню, ничего не пил и разве, в редких случаях, вливал ложечку-другую коньяку в чай.
— И лимон достань, Егоров. Наш дорогой гость пьет чай с лимоном.
— Известны об эфтом, вашескобродие. Не извольте беспокоиться. И лимон найдем… А, может, и закусить прикажете подать? — весело и радушно спрашивал Егоров, переступая с ноги на ногу в своих самодельных парусинных башмаках.
— Закусить? Разве найдется что-нибудь?
— Как не найдется… У нас, слава богу, завсегда все найдется… Что вы это изволите говорить, вашескобродие! — обиженно заметил Егоров. — Заливное из телячьей головки есть… к завтрему изготовил… Грибки соленые… Маринат из лососины, — с гордым видом перечислял Егоров.
— Да мне есть не хочется, — заметил я.
— Может, и надумаете, вашескобродие! Вечер-то долог! — заметил Егоров.
— Уж вы не отказывайтесь, не обижайте Егорова… Пусть подает! — промолвил Матвей Иванович.
Егоров ушел, а Матвей Иванович проговорил:
— Золотой человек этот Егоров… На все руки… Заметили, как за честь дома вступился, а? — усмехнулся Матвей Иванович. И бережет как мою копейку, если б вы знали? С ним я, как у Христа за пазухой… Отлично живу на свою пенсию…
Старик деликатно умолчал, что эта «отличная жизнь» была более, чем скромная и даже не без лишений, так как из пенсии, получаемой им, он уделял тридцать рублей в месяц своей племяннице — курсистке, о чем я случайно узнал от само й молодой девушки.
— Ну, теперь рассказывайте, что хорошего делается на свете… По газетам-то ничего особенно хорошего нет на свете… Может быть, по слухам есть что-нибудь приятное, а?.. Вы, как литератор, должны знать.
— Ничего не знаю, Матвей Иваныч…
— А не знаете, так я вам скажу, что непременно должно быть на свете что-нибудь хорошее… И есть да и будет… И обязательно будет! — оживленно воскликнул старик. — Духом-то падать добрым людям нечего. Правда на свете свое возьмет, будьте уверены-с!
И Матвей Иванович, сам до известной степени потерпевший в жизни за правду и, казалось, имевший некоторое право не совсем доверять ее торжеству, тем не менее говорил об этом торжестве с чисто юношеской верой и, по обыкновению, самыми светлыми красками рисовал будущее людское благополучие, когда не будет войн, не будет ни богатых, ни бедных, и люди окончательно убедятся, что несравненно выгоднее и спокойнее жить по совести…