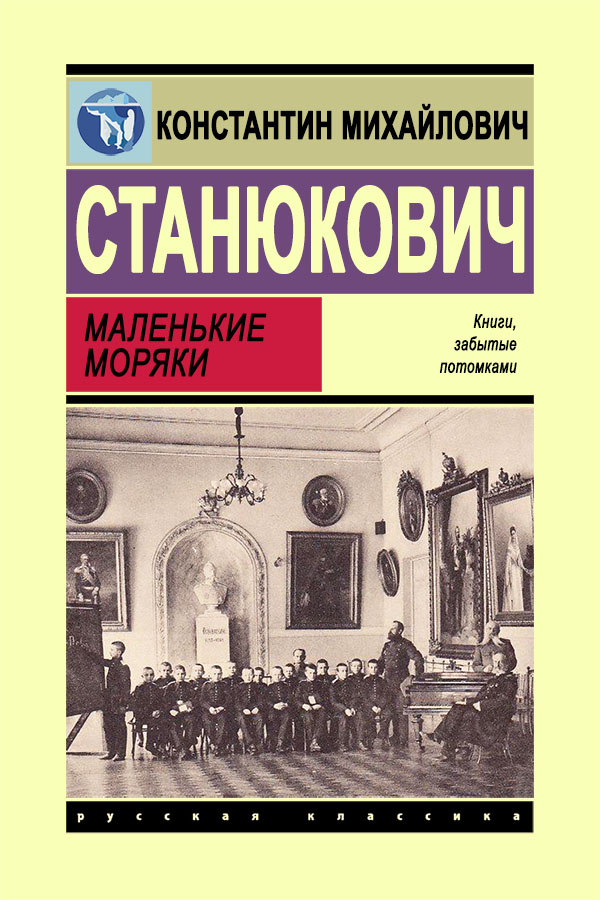показалось мне подозрительным. Обыкновенно приятели, ходящие в разные места, называют их, но как только они начинают посещать «одна место», то стыдливо умалчивают. Я, конечно, не спросил, какое это «одно место» вдруг нашлось у почтенного профессора, немногочисленные знакомые которого были мне известны, хотя, признаться, любопытство мое было возбуждено до последней степени. Со временем, думаю, сам расскажет, а теперь я решил наблюдать за ним…
Он посидел у меня несколько минут и вдруг, словно бы удивленный, что я не обращаю внимания на перемену в нем, спросил:
— А ты не замечаешь, что я выстригся?
— Что это тебе вздумалось? — самым равнодушным тоном спросил я.
— Да, видишь ли, жарко спать с длинными волосами и, когда ешь, только пачкаешь бороду… Неопрятно как-то!
И если б вы только слышали, господа, каким это он невиннейшим тоном произнес, старый шельмец, будто и в самом деле приведенные им поводы и были истинными причинами его посещения парикмахера. Прежде, небойсь, не жарко было спать и не стыдно было пачкать бороду, а теперь вдруг, видите ли, неопрятно. И пред кем он лукавил? Еще добро бы перед супругой, которая могла бы задать взбучку и которой у него не было, а то перед закадычным приятелем. Тем не менее я вел свою линию, не выразил ни малейшего удивления и даже поддакнул: — «Да, говорю, пожалуй, удобнее». — «Советую, говорит, и тебе последовать моему примеру, а то ты совсем лохматый». Я усмехнулся и ответил, что мне и так удобно… Он поднялся и, подавая мне руку, спросил, не нахожу ли я, что он несколько изменился. Ясно было, что он хотел спросить, не помолодел ли он. Но я взглянул на его действительно несколько помолодевшее, хотя все-таки, между нами говоря, морщинистое, старое, худое лицо и даже, казалось мне, поглупевшее, и ответил, что никакой перемены не вижу. — «Морщины только заметнее стали на щеках с тех пор, как ты обкарнал бороду!» — ехидно прибавил я. — Ну ты всегда неприятности говоришь… До свидания…
С этого самого дня мой Алексей Алексеич, что называется, выбился из своей колеи. Прежде, бывало, редко, редко когда выходил по вечерам, все больше дома и в халате за книгами, а теперь почти ни одного вечера его нет дома… Все верно в «одно место» ездил, а то по театрам… И стал какой-то возбужденный, знаете ли… Ну, думаю, плохи дела с Алексеем Алексеичем. На старости лет сбрендил. И как-то спрашиваю его, где это он по вечерам пропадает. Покраснел слегка. «В театры, говорит, езжу. Прежде я, говорит, дурак был, сидел все сиднем, а теперь захотелось музыки послушать… я всегда любил музыку… И тебе советую». — Благодарю покорно за совет… Не вредно ли в наши годы все по театрам шататься? Озлился. — Что ты все с годами да с годами! Не дряхлый же я старик… И ушел к себе.
Но видно мои слова задели его за живое. Уж я давно советовал ему массаж и гимнастику, но он и ухом не вел, а теперь перед лекциями каждое утро стал ходить в гимнастическое заведение, души холодные стал брать, гири подымать, одним словом мнил обратиться некоторым образом в Фауста… Подите же… А ведь умный человек, — воскликнул, смеясь, доктор.
— А кто же была Маргарита? Брюнетка или блондинка? Замужняя или девушка? — спрашивала Варвара Петровна.
— В свое время узнаете, Варвара Петровна… Заставили рассказывать, так не перебивайте… Дайте только папиросочку выкурить.
Доктор выкурил папироску.
— Прошел так с месяц. Я надеялся, что месяц для старческой блажи срок совершенно достаточный, и думал, что мой друг наконец перестанет ходить в «одно место» и образумится… Не мог же он рассчитывать на взаимность, если и в самом деле втюрился… Хоть он и поглупел, но не настолько же!..
— А разве непременно рассчитывают на взаимность? Разве нельзя безнадежно любить? — перебила Варвара Петровна.
— Полагаю, что долго нельзя, а, впрочем, это не относится к делу.
— И, наконец, разве нельзя полюбить старика, особенно если он умный и интересный? — снова заметила хозяйка.
Доктор рассмеялся.
— Ну, вы, Варвара Петровна, составляете, значит, исключение. А я повторю слова Гейне, кажется, что лучше два раза любить двадцатипятилетних, чем раз пятидесятилетнего.
— Вы циник и больше ничего.
— А вы верно в душе согласны со мной… Однако не мешайте… Прошел, говорю, месяц, но Алексей Алексеевич не только не излечивался, но глупел все более и более… По крайней мере дошел до того ошалелого состояния, что на старости лет заговорил стихами. Вы удивляетесь? Честное слово! И какие еще трогательные. Однажды я увидал у себя в кабинете листок бумаги… Это мой приятель в рассеянности обронил… Поднимаю и читаю… Я их до сих пор помню. Вот они:
О, если только ты не та,
Что говорят мне наблюденья,
Не отрицай. В мои лета,
Ведь так отрадны заблужденья.
Пусть помнит ту моя мечта,
В ком тонкий ум, в ком дух сомненья,
Натуры чуткой простота,
Души возвышенной стремленья.
И, целомудренно чиста,
Внушая культ благоговенья.
Сияет гордо красота.
Так дай мне грезы сновиденья
И не буди, коль ты не та!
— Ну, значит, что называется, с сапогами втюрился! — подумал я, прочитавши это стихотворное излияние… Надо принимать меры. И когда Алексей Алексеич пришел обедать, я подал ему его листок и говорю: «Ты обронил, дружище». — Покраснел старик, словно школяр, застигнутый за кражей яблок. — «Ты читал?» — Читал. — «Это, говорит, я списал из одного журнала». Вижу, что нагло врет, и спрашиваю: «Почему же они тебе так понравились? Прежде, кажется, ты стихи не особенно любил?» — Неправда, всегда любил. В этом стихотворении чувствуется искренность, и вообще оно мне кажется недурным! — конфузливо прибавил он. — «Не нахожу. Вирши самые ординарные. Удивляюсь, что их напечатали. В каком журнале ты их нашел?» — Отозвался запамятованием — еще бы! — и окрысился. Так мы и промолчали весь обед.
Прошло так несколько дней, и он вдруг почему-то заговорил об одном профессоре, который шестидесяти лет женился на восемнадцатилетней девушке.
— Разве ты не находишь, что этот профессор идиот?
— И что это у тебя за привычка вечно ругаться… Чем же он, как ты говоришь, «идиот»… А Мазепа… А Лессепс? В каких они преклонных годах женились…
«Так вот оно что!» — подумал я, и мне стало бесконечно жаль этого «Мазепу», да еще с хроническим катаром желудка и с астмой.
— Ах, Алексей Алексеич, ужели ты, профессор еще