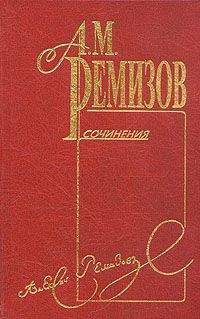И какая чудесная, умная, смотрела эта Мильда, такая крепкая девочка с овсяными косками.
Сели, посидели, помолчали и опять стали друг другу кланяться: хозяевам на покой пора, доброй ночи желали мне, и мне с дороги отдохнуть не мешает, пожелал и я им доброго сна. Всякий на своем и по-своему говорил.
Мельник с вином, за мельником мельничиха с подносом, а за ними ребятишки — гуськом. И я опять остался один.
Мельник вернулся.
— Рано утром, — сказал он и так ясно и понятно, будто по-другому сказать и не мог никак, — рано утром прилетит птичка, постучит носиком в окно, вставать!
«Рано утром прилетит птичка, постучит носиком в окно, вставать!» — и мне чудно стало: ишь, какой мельник!
А ведь и правда, я проснулся от стука: маленькая птичка стучала ко мне в окно из сада, вот чудеса!
И уж я знал, когда подыматься, и нарочно другой раз до солнца глаза открою, чтобы мне мою птичку посмотреть, как будет будить меня: чуть станет солнце над лесом, и она уже летит… такая умная птичка! — подлетит, метнется, словно заглянет, сплю иль не сплю, и носиком в стекло — какая умная птичка! — постучит в стекло, посидит, по-отдохнет и опять… какая умная птичка!
В воскресенье заложил мельник линейку, древнее что-то вроде нашей линейки, и повез меня осматривать землю — свои владения.
— Ваша, — говорил мельник, кнутом по сторонам показывая на лес и землю, — ваша, и это все ваша.
И хоть все было наше, но его оказалось не очень много: и земли немного, а лесу и того меньше, много было у барона, и когда проезжали мимо замка, мельник смотрел совсем сурово и совсем недобро.
— Барон ничего не позволяет, ни корчмы держать, ни заводить фабрику, а сам все делает плохо! — мельник говорил обрывисто, кнутом никуда не показывал.
Правда это или неправда, я не знаю, только одно я заметил, что мельник свое поле косил косилкой, а у барона косили косами. Возможно, что мельник был прав, и суровость его по правде.
От замка поехали так, по дороге землю смотреть.
Попадались сожженные мызы, груды камней лежали на месте домов: это было на другой год после нашего свободного года, и беды было везде немало.
— Человека стрелили, — подымал мельник кнут, — двадцать стрелили.
Дни проходили так: я вставал по птичьему стуку, пил чай, потом начинались передвижения по комнате, — то подсяду к окну, в поле смотрю, то к другому, в сад посмотрю, пчелу послушаю — все гудит, работает! — потом лягу на постель и лежу, из окна мне луг виден, — «во лузьях, во зеленых лузьях!» А после обеда, как станет спадать жара, отправлялся я через кладбище лесом к речке.
И всякий раз неизменно появлялась Мильда. Как моя птичка, чуть подымется солнце, и уж летит, так и Мильда, вечереет, иду по дороге, и она тут как тут. Она, как зверок, то забежит и начнет кувыркаться, то далеко уйдет за деревья и кричит, — и звонко надносится по лесу голос, как самая первая и голосистая птичка.
Мильда собирала землянику и рвала цветы. Землянику она давала мне в горстке, а цветы на дорогу положит или пустит на воду в речку и сейчас же спрячется, и я вижу, как зорко следит. И когда я догадывался и вытаскивал из воды цветы или подымал цветы с дороги, Мильда кричала от удовольствия, и звонко, еще звонче надносился ее голос по лесу.
Мильда ничего не понимала, что я говорил ей, и ни одного слова я не слыхал от нее. Мильда только смотрела, смеялась и кричала. И скоро я понял и ее глаз, и ее смех, и ее крики, и я покорно нагибался с берега за цветами и к земле на дороге за цветами.
Вечером, когда зажигали огни, заходил ко мне в комнату мельник, садился к окну у двери, брал папироску, закуривал и молча курил. Я пил молоко и ходил перед мельником от окна к двери. Тут же неизменно была и Мильда, она тихонько забиралась в угол и из угла высматривала зверком, — следила.
А мельник все сидел, курил и о чем-то думал.
— Дождю довольно! — говорил мельник, и начинались поклоны: на покой пора.
Я выходил в сад. В саду, в домиках спали пчелы, на клети спал аист, и дом с мельником спал: снилась ему ясная погода и луга, — во лузьях, во зеленых лузьях расхаживал мельник.
Так я и жил, я привык к мельнику, привык к пчелам, привык к Мильде, привык к своей птичке: птичка меня разбудит, мельник меня накормит, Мильда дорогу покажет.
На Ильин день, когда я поднялся, уж на кладбище звонили к обедне. Птичка меня не разбудила!
«Как же так, птичка… на такой день! пенял я птичке и на себя пенял: проспал я птичку, не слыхал птичку, а она, поди, носиком как колотилась, беспокоилась, что не встаю, и колотилось ее маленькое сердце, с горошину такое, не больше, и как, поди, тревожно в окно засматривала: „Вставай ты, вставай!“ — будила меня моя маленькая, умная птичка».
Подхожу к окну, так без мыслей всяких, смотрю, а на подоконнике — моя птичка, и уж нет моей птички, одни ее лапки лежат и перышко.
Вот эти самые лапки и перышко!
День был пасмурный, печальный, а вечер пришел, еще тише. Мильда не кричала, не смеялась. Мильда была, как день, печальна: забежит далеко по дороге, упадет в траву и лежит ничком, будто обмирает, — больше не было птички!
И три дня мы так жили, вставал я без времени и спал плохо, долго не спится, а потом — как убитый. Уж подумывал, не попросить ли будильник. И вдруг, под утро, стучит. Открываю глаза — птичка! Бросился к окну — Мильда! — Мильда, как птичка, быстро пряталась за кусты.
«Милая моя птичка, умная и догадливая, — с этих пор, как птичка, час в час будила меня Мильда, — и я кланяюсь тебе и земле твоей и народу твоему!»
1913 г.
Многое можно понять, чего сам никогда, даже и во сне, пожалуй, не сделал бы, но одного я себе не мог представить и не нашел уклонов в самой тьме сердца, чтобы понять, как это так маленьких детей истязают, т. е. не один раз шлепок там дадут ребенку, а изо дня в день больно изводят, и пусть от самого жгучего и нестерпимого, пусть остервеневшего сердца.
Я немало встречал детей и русских и нерусских — нет, этого я никогда не мог, я никак не могу принять! — И знал я людей, у них вся душа была истерзана и сердце надорвано, и свет уж им не мил был, просто им жить было нечем, и одни только дети, — да посмотрите, какое ножное светлое тельце и как они смотрят! — только дети и возвращали их к жизни, хоть на час, хоть на минуту.
Нюшка отца своего, настоящего, никогда не видала. Ей было три года, когда мать вышла замуж. И первый год Нюшке хорошо было в доме и она думала, что Александр и есть ее настоящий отец, но когда родилась у нее сестренка, Нюшка поняла и так, и из слов поняла, что ошиблась.
Жили они за Обуховым мостом, у Пахомовны-старухи комнату снимали. А как ребеночек родился, съехали на другой двор. Пахомовна Нюшку баловала: хорошая такая дсичонка росла, внимательная, и хоть куда — яблонька молоденькая!
Начал Александр бить Нюшку, и за дело и без дела, и н нршдник и в будни, одинаково. И уж Нюшка теряться стола; и так сделает — побьет, и этак сделает — опять дёр к м. И мать стала бить.
Вернется Александр с завода, попадет ему на глаза Нюшка, а ведь как не попасться, ты куда скроешься? — увидит, да так саданет кулаком под подбородок, инда кровь пойдет: известно, мужская да чужая рука тяжелая.
И не то, что Нюшка не родная ему, а то, что в гульбе родилась — мать там с каким-то путалась! — и ничего уж он знать не хочет, противна ему девчонка, и как увидит и как вспомнит — мать-то там до него с каким-то путалась! — как вспомнит, да на девчонку, бить.
А мать кричит:
— Давай, я лучше бить буду!
Думала отвадить этак, уберечь ребенка: свое дитё и побьет, да легонько. Ну, да как ни бей, ведь, сердце-то вот как ходит! — как ни бей, все больно будет. Вырвет девчонку от отца, да бить.
Так из рук в руки, от кулака под кулак, да вся избитая и ходит Нюшка, нянчит сестренку. Если бы с большим такое, тот нашел бы… а ведь она маленькая, затрясется вся…
— Давай, я лучше бить буду! — так и закричит мать.
Стояло в углу сломанное судно, на это судно усаживалась Нюшка: подберется вся, скорчится и сидит тихонько, будто ее и нет в доме.
— Проклятое, скотина! — вдруг вспоминал отец и смотрел, ой, смотрел, и не дай Бог на глаза попасться.
Случалось, что Александр выпивал, и тогда всем было плохо. Он накидывался сначала на Нюшку и лупил ее, чем придется, и ремнем, и веревкой, и так, пинками, — в кровь изобьет, да за мать.
Нет, он не мог простить матери, не мог забыть ей, что путалась, и эта девчонка… и ничего уж знать не хочет, все вспомнил! — и ненавистны ему и мать и дочь.
Когда жили у Пахомовны, тихо было и, даже выпивши, не задирал он мать и не поминал ей, а тут… и до матери добрался.
И как еще Бог спас, целы оставались.
А мать, избитая-то — куда ей девать обиду? — да на девчонку, и выместит: ведь, не будь ее, было бы все! — да на девчонку, да с размаха, как хватит.