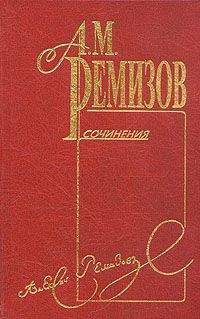Мы сидим на диване, так — я, так — Аленушка, рядом. Аленушка рассказывает мне о какой-то Надежде Сергеевне, которую она знает, о каком-то Варельяне Сервестовиче, над которым долго бьется, выговаривая мудреное имя, и о каких-то детях, о Тане, Юре, Оле, Наде, Кильке, и о какой-то Лидии Васильевне, которая знает много сказок, а сама она, Аленушка, знает только одну.
— Какую?
— О Дедке Морозе, — говорит Аленушка, — «Тепло ли тебе, девица, тепло ли, красная?» «Тепло, дедушка!» — Аленушка смотрит, и видит, и светит.
— Аленушка, я очень люблю игрушки, я разговариваю с ними, как сейчас с тобою, и я их тебе все отдам, если хочешь. И самые любимые мои: лебедя, коня, петушка, красного слоника, мышку, все тебе дам, хочешь? Только одну, оставь мне одну, заветную, эту — оленя-золотые рога. Я, Аленушка, задумал большую думу и мне без оленя никак нельзя, он ночью рогами золотыми посветит дорогу, оставь мне оленя!
Ни оленя, ничего не взяла Аленушка, только посмотрела на игрушки.
Аленушке одна белка понравилась, белка-кухарка, и с белкой на минутку скрылась Аленушка. А когда вернулась, стала с белкой у окна и долго, молча, все ее тискала, потом разговаривала с ней, потом… хвостик у белки отпал.
Оторвала Аленушка хвост, любя, конечно.
Пришло время домой уходить, прощаться.
Стали мы прощаться. И уж как целовала Аленушка белку и хвост, а взять и ее не взяла, и хвост не взяла.
Пеструю ленточку из-под конфет подарил я Аленушке, поцеловал ее в лобик, поцеловал и коски ее, и ту и другую, с красненькой ленточкой.
1912 г.
У меня есть два маленьких приятеля: Иринушка и Кира, брат с сестрою.
Я застал их в страшном горе: собаку их Шумку съел волк. Из костромского их Теремка пришло это печальное известие.
— Шумку волки съели, — встретили меня оба в один голос и так же одинаково добавили: — один Шумкин хвост остался.
О хвосте, оставшемся после съеденной Шумки, конечно, из Теремка ничего не сообщалось, они это сами себе сочинили в утешение.
— Шумку волки съели! — повторяли они в один голос на все лады, и другого разговора не выходило, все только о Шумке.
Волк съел Шумку с месяц, и недели две назад, как пришло из Теремка известие, и за эти две недели дети не могли успокоиться, и все мысли их были заняты съеденной Шумкой, собакой простой, дворняжкой, привыкшей к своей конурке, да к костям, какие попадали ей из кухни на обед и ужин.
Детям Шумка представлялась чем-то особенным и ничуть не простым, во всяком случае была она вроде человека, как папа и мама, только что не говорила, говорить по-нашему не умела, а зато на папе и маме не покататься так было, как на Шумке.
А волк — волки — волк, взял да и съел Шумку, один хвост оставил.
«Ах, волк ты серый волчище, Ивана-царевича из беды выручал и от смерти спас, а тут такое устроил! Да если б хоть раз в жизни своей волчиной увидел ты Иринушку мою, носик ее (Иринушка — курнопятка у меня), и как она смотрит, да никогда бы ты и не захотел съесть ее Шумку. „Я твою Шумку трогать не буду, буду ходить по лесу, будет Шумка бояться меня, но уж тут я ни при чем, я волк!“ — сказал бы ты, волк, недогадливый. Ну, что бы тебе хоть раз, раз один, посмотреть на Иринушку».
— Ну, вот что, — сказал я моим приятелям, — будет у нас вместо Шумки котенок, Муркой назовем, согласны?
— Согласны.
И я рассказал им о Мурке, какая она такая.
— Маленький, вот такой, котенок с длинною шесткой, а молочко так хлебает… усы напыжит и мордочкой покачивает, Мурка.
Я сказал им об этой Мурке потому, что как раз накануне был я у знакомого в гостях и тот предлагал мне котенка взять: два котенка у него, — кошка Мурка и кот Василий. Я тогда отказался, но теперь, желая чем-нибудь загладить Волкову промашку и утешить Иринушку, решил взять котенка Мурку: пускай она место Шумки в Теремке живет, в Теремке с детьми ей хорошо будет.
И! как обрадовались, забыли и Шумку, хвост Шумкин, лютого серого волка — волков, и уж весь вечер только и проговорили, что о пушистом котенке, о моей Мурке.
— Завтра часа в три принесут вам Мурку! — простился я с приятелями моими.
И утешенные, с Муркою в думках, пошли они к себе в свою детскую: завтра будет у них Мурка.
Я навестил знакомого, дал ему адрес и попросил завтра же к трем часам послать детям ту самую Мурку, от которой я отказался. И знакомый мой ответил мне, что все исполнит непременно: труда ему особенного не будет — От Покрова до Мясной улицы три шага, близко, и котенка не простудишь.
Я так был уверен, что он все исполнит.
«Ну, — думаю, — теперь уж мучают мою Мурку, но и любят, как, конечно, ни я, ни тот мой знакомый не полюбили бы, и говорят с ней, разговаривают, как только могут одни дети говорить с животными, как-то и запанибрата и с уважением.»
Через месяц встречаю их мать.
— Ну, что, — спрашиваю, — как Мурка?
— Какая Мурка? — и рассказала она мне, каких я ей дел наделал, каких хлопот с этой Муркой, оказывается, никто и не думал присылать им котенка, — а как дети-то ждали! С утра с самого на всякий звонок бегали к двери, не несут ли котенка, не идет ли Мурка? И за стол не усадишь, не едят ничего, все ждут, до ночи ждали…
Я к знакомому:
— Что же это, — говорю, — там ждали, а вы…
Оправдывается: отдавать будто ему тогда жалко стало.
— Весной, — говорит, — будут котята, вот тогда одного непременно уж пошлю.
Ну, ладно, будет весною новая Мурка, утешился я, да и детей утешил.
— Весной, — говорю, — будет вам Мурка, а теперь холодно еще, простудить можете, она маленькая.
Пришла весна. Вспомнил я о приятелях моих, вспомнил обещание мое, вспомнил, как ждут они, и пошел к знакомому тому котенка просить.
И что же, опять постарался: кота Василия испортил, а Мурку мою держал взаперти, какие уж котяты!
— Да помилуйте, — говорю ему, — что же вы сделали, ведь там ждали, там ждут! Что я-то им скажу? Ведь, если бы вы знали, как ждут…
Смеется, смешно ему, что не понимаю.
— Кот лучше будет, понимаешь, сытый будет, добрый кот, Василий, да и мебель новенькая, испортил бы мебель…
Мебель! Да Бог с ней, туда и дорога, и пускай был бы кот драный, пускай бегал бы из дому, пропадал бы и виновато возвращался бы домой исцарапанный, голодный, паршивый, мне котяток надо, котенка, Мурку. Что я скажу им, Иринушке и Кире, как я им на глаза покажусь теперь? «Где, спросят, котенок?» Что я им отвечу, где?
И я ушел с пустыми руками, шел я мимо моего дома, мимо дома Иринушки.
«Иринушка, я тебе котенка достану, ну, если не я, все равно, он у тебя будет, маленький, Мурка. Ведь так ждать, как ты ждала, оба вы ждали, да вам за это все, что хотите, должно быть и будет. Котенок почует — он зверь, как мой волк, котенок почует, сам прибежит, без всякого кис-кис прибежит. Он у вас будет. Ведь вы его и не видя любите, и как любите! А любовь тянет, за версту услышишь, из века почуешь, — он будет у вас непременно маленький с хвостиком и с длинной-длинной шерсткой».
1912 г.
За чудом далеко не надо ходить, а за границу ездить и подавно.
Оно тут всякую минуту перед глазами, только смотри и замечай. Жаль, замечают так мало. А не замечают не потому, что котятами, что ли, барахтались в жизни, нет, не так это просто, каждому из нас больше отпущено, чем сами мы о себе думаем. Не замечают совсем по другим причинам: или от своей ужасной занятости, или, странно оказать, стесняются…
Живя в городе, читаешь по утрам газету, конечно, а дном толчешься с людьми по занятию своему; газетные известия — на бумаге, знакомые твои — круг такой узенький. А как люди живут по настоящему-то, народ живет, все это, по крайней мере, в миллион раз больше твоего круга, откуда увидишь?
Знал я одного, никогда не выезжавшего из Петербурга, — за делами все, не было и минуты свободной, так для него народ волей-неволей в полотере сошелся; придут полотеры пол натирать, поговорит с ними, ну, будто и к народу, к земле прикоснулся. И сколько лет так через полотера на свет Божий смотрел, да так и помер. А то один с извозчиками век свой вечный проговорил. С самим-то с собой, да с событиями из газет всяких, да с людьми с теми, что всякий день видишь на занятии, так, должно быть, очертеет, тут и полотеру рад, тут и за извозчика возьмешься.
Скажу вам, тоже в трамвае можно видеть много, если смотреть, о своем не очень думать. Разговор, конечно, заводить не придется, и слушать, пожалуй, мало чего в трамвае разговаривать не принято, но больше и главное смотреть.
Сел я раз у Гостиного, днем это было, и как на подбор, полон трамвай и таких ужасных зверских, не зверских, а насекомых каких-то лиц.
Вы представьте себе таракана, только страшно увеличенного, или блоху, только страшно увеличенную, и отбросьте от всех от них усики всякие, крылышки, или червяка ножки его червячьи и туловище, одну их голову возьмите и увеличьте ее до крайности, — вот какие собрались лица.