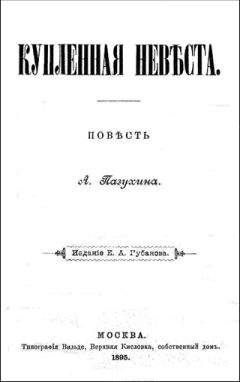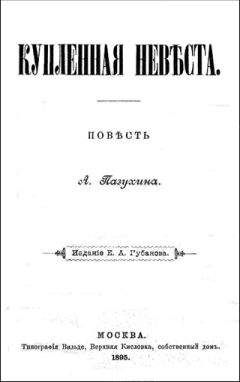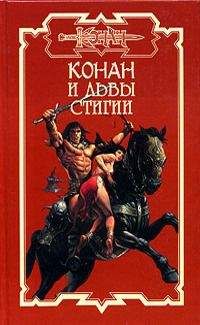— Хорошо! — проговорилъ онъ, помахивая рукою.
«Весело, — хоть на мгновенье,
Бахусомъ наполнивъ грудь,
Обмануть воображенье —
И въ былое заглянуть!» [1]
— А какъ это «на смерть кучера Агаsона», какъ? — смѣясь, спросилъ Павелъ Борисовичъ.
— Ну, что это-съ, это не возвышенное…
— Прочитай, тебѣ говорятъ!
Чижовъ поднялъ глаза, приложилъ руку къ сердцу и продекламировалъ:
«Умолкло все съ тобой! Кухарки слезы льютъ,
Супруга, конюхи вѣнки изъ сѣна вьютъ,
Глася отшедшему къ покою:
Когда ты умеръ, шутъ съ тобою!»[2]
— Ха, ха, ха! — засмѣялся Скосыревъ. — Это стихотвореніе онъ, можете себѣ представить, прочиталъ на могилѣ моего умершаго кучера. Когда онъ началъ, вдова кучера заплакала, но когда были произнесы послѣднія слова, вдова бросилась на Купидончика, схватила его за волосы, и бѣднаго декламатора насилу отняли у бабы.
— Не возвышенно-съ, — проговорилъ Чижовъ. — Застольная бесѣда должна быть вѣнчана розами, сопровождаема пѣніемъ и музыкою, особливо ежели предсѣдательствуетъ богиня красоты и граціи, вотъ какъ онѣ.
Чижовъ указалъ на Катерину Андреевну.
— Ты ужь влюбился? — спросилъ Скосыревъ.
— Что-жь, я красоты поклонникъ, но, взирая на нихъ, я ощущаю только хладъ въ моей душѣ.
— Это почему?
— Такъ-съ.
Чижовъ уныло опустилъ голову.
— Намъ на холостомъ положеніи веселѣе было, — продолжалъ онъ. — Пѣніе и танцы, розы и тимпаны, рой веселыхъ красавицъ и звонъ бокаловъ, а теперъ что-же-съ? Теперь пойдетъ не то…
— Ну, безъ нытья! — перебилъ Скосыревъ. — Знаешь, я не люблю, когда ты брюзжать начнешь. Изволь что-нибудь веселое разсказывать.
— Веселое-съ? Могу. Сударыня, вы въ качествѣ чего же вступили въ сей домъ? Ежели невѣстою, то вѣдь у васъ есть супругъ, который можетъ васъ по этапу вернуть, а ежели…
— Вонъ! — крикнулъ Павелъ Борисовичъ, и голосъ его раскатился по всему дому.
Чижовъ съ трудомъ поднялся, пробормоталъ что то и вышелъ изъ столовой при помощи дворецкаго.
— Pardon, — обратился Скосыревъ къ Катеринѣ Андреевнѣ, подымаясь изъ-за стола. — Я сію минуту.
— Вы, конечно, не тронете его? — спросила его молодая женщина. — Онъ такой жалкій, несчастный.
— Конечно, нѣтъ; я только распоряжусь убрать его, а то начнется представленіе, я его знаю.
Павелъ Борисовичъ догналъ Чижова черезъ три комнаты. Дворецкій велъ его, внушительно наставляя и читая ему нотацію.
— Не пристойно, сударь, ведете себя и не умѣете цѣнить благодѣяній, кои вамъ Павелъ Борисовичъ оказываютъ. Есть вы все-таки дворянинъ, а, поведеніе ваше столь непристойно, что подлому человѣку сдѣлались вы подобны за господскимъ столомъ.
— Ну, ну, молчать, хамъ, молчать! — бурлилъ Чижовъ. — Отъ чужихъ женъ не увози, не дѣлай столь низкихъ пассажей…
Скосыревъ схватилъ Чижова за воротникъ и такъ встряхнулъ, что фракъ затрещалъ но всѣмъ швамъ.
— Ты что же это, гадина, вздумалъ? — обратился Павелъ Борисовичъ къ присѣвшему Чижову. — Дерзости дамѣ говорить, гостьѣ моей? Ты что же, хамъ, лакей, который господскаго куска хлѣба жалѣетъ и завидуетъ? Запереть въ хлѣвъ прикажу на хлѣбъ и на воду, въ дерюгу одѣну!.. Не пускать его къ моему столу никогда, а теперь въ холодную на всю ночь!
— Благодѣтель, Павелъ Борисовичъ, прости! — залепеталъ Чижовъ, распуская пьяныя слезы. — Холодно въ чуланѣ то, знобитъ, жестко, а вѣдь я старый ужь человѣкъ, кости у меня ноютъ, мнѣ бы на теплую постельку послѣ обѣда, поспать бы мнѣ…
— Такъ зачѣмъ же ведешь себя такъ? Какъ ты смѣлъ сказать дерзость Катеринѣ Андреевнѣ?
— Съ тоски. Не будетъ намъ такого житья при ней, не будетъ…
— Кому это вамъ?
— Всѣмъ, родненькій, всѣмъ.
— А, это тутъ толки пошли, пересуды, догадки? Всполошилось болото, заквакали всѣ?
— Всѣ, благодѣтель, всѣ, Наташа вонъ плачетъ, рыдаетъ. Дашенька слезы льетъ изъ голубыхъ очей, клюшница мнѣ на завтракъ ватрушечки не дала: не до тебя, говоритъ, горюнъ; теперь бѣглую, говоритъ, жену ублажать да откармливать будемъ…
Павелъ Борисовичъ выпустилъ Чижова и обратился къ дворецкому:
— Унять это болото! Слышишь? Чтобъ я больше подобнаго слова не слыхалъ, рожи постной не видалъ! Отъ клюшницы отобрать ключи и передать Матренѣ и пусть Матрена сію же минуту накажетъ Дашку какъ слѣдуетъ, да сказать и Наташкѣ, что ей то же будетъ, а этого вотъ отправить во флигель и туда носить ему столъ и чай, не выпускать. Тутъ бунтъ какой-то, смотри у меня! Я шкуру со всѣхъ спущу, сошлю всѣхъ!
Павелъ Борисовичъ повторилъ свои приказанія вытянувшемуся въ струнку дворецкому и пошелъ въ столовую.
— Послать ко мнѣ Порфишку, — приказалъ онъ уже на ходу. — Что я его не вижу?
— Онъ запилъ, Павелъ Борисовичъ, и буянитъ. Я распорядился его въ чуланъ запереть.
— Это еще что?
— Да прибылъ мужикъ изъ Чистополья и сказалъ, что сосланную туда Лизавету за Архипку замужъ выдали-съ, а Порфирій располагалъ жениться на ней, давно у нихъ сватанье это шло.
— Ну, ничего, пройдетъ. Не трогай его. Отпустить его въ людскую и присматривать, а пьянствовать можетъ три дня, больше не давать. Ко мнѣ Скворчика послать.
Катерина Андреевна задумчиво обрывала вѣтку винограда и запивала венгерскимъ, когда вернулся Павелъ Борисовичъ. Онъ выслалъ лакеевъ и сѣлъ у ногъ Катерины Андреевны на низенькой скамеечкѣ.
— Ты, конечно, не обидѣласъ на этого пьянаго дурака? — спросилъ онъ, цѣлуя руки молодой женщины. — Извини, что я напоилъ его.
— Ничего, мой милый, мой хорошій. Я ни о чемъ не думаю, кромѣ того, что я твоя, что для меня настало счастье, но я немного боюсь: тутъ у меня много враговъ, недоброжелателей, всѣ на меня, всѣ боятся меня и ненавидятъ.
— Ахъ, какіе пустяки! — засмѣялся Павелъ Борисовичъ. — Да развѣ можно обращать вниманіе на это?
— Очень ужь возненавидѣли меня всѣ, очень великъ у тебя штатъ. Моя Глафира сказывала мнѣ, что всѣ эти твои фаворитки, пѣвицы, танцовщицы, прихлебатели, управители возстали на меня, видя пришлую хозяйку, опасаясь меня. Я, конечно, не боюсь ихъ съ тобою, но мнѣ больно, что я внесла такую смуту въ твой домъ. Ты меня увези скорѣй куда нибудь.
— Милая, я увезу тебя очень скоро, мы за границу поѣдемъ, а объ этихъ пустякахъ ты пожалуйста не думай. Я зажму всѣмъ рты и уйму ихъ сразу. Тебѣ надо заявить здѣсь себя хозяйкой, барыней, владѣтельницей всего, а потому покажи имъ себя какъ слѣдуетъ. Я къ тебѣ приставлю горничными именно тѣхъ, которыя были тутъ «барскими барынями», и онѣ увидятъ, кто ты для меня, ну, отъ тебя будетъ зависить поставить ихъ какъ слѣдуетъ. У тебя маленькія туфельки, маленькія нѣжныя ручки, но и этими туфельками ты можешь внушить своему штату, что ты тутъ все. Пожалуйста не церемонься, не нѣжничай и все пойдетъ превосходно. Онѣ у меня избаловались безъ хозяйки, пожалуйста прибери ихъ къ рукамъ, а свою Глафиру сдѣлай главною фрейлиной и домоправительницей; она умная у тебя и преданная. Но будетъ объ этомъ, будетъ! Я хочу ласкать тебя, любить, говорить тебѣ о своей любви. Сядемъ къ камину, возьмемъ вина, фруктовъ, ты позволишь мнѣ курить, и мы почувствуемъ себя какъ въ раю. Блаженство мое, радость моя!
Скосыровъ обнялъ Катерину Андреевну.
Цѣлая буря поднялась на хуторѣ и въ деревенькѣ Луки Осиповича Коровайцева, когда узналась страшная истина.
Опрокинутый тройкой Скворчика и чуть не раздавленный бѣшено скачущими конями другой тройки, Лука Осиповичъ вскочилъ на ноги и выстрѣлилъ въ догонку бѣглецовъ, считая себя страшно обиженнымъ. Парень его, Яшка, служившій и кучеромъ, и лакеемъ, и доѣзжачимъ, поднялся изъ подъ саней съ окровавленнымъ во время паденія лицомъ и энергично выругался, не стѣсняясь присутствіемъ барина.
— Ишь, проклятые разбойники, озарники, чуть не убили, анаsемы! — говорилъ онъ подымая упавшую лошадь. — И супонь лопнула, и гужи оборвались!
— Кто это такіе? — спросилъ Лука Осиповичъ, помогая Яшкѣ. — Я закутавшись сидѣлъ, не видалъ.
— Не знамо кто, сударь, а только не изъ сусѣдей, лошади незнакомыя, да и кучеромъ какой то усатый лѣшій сидѣлъ, нѣтъ тутъ такихъ. Смотри, что недобрые люди какіе нибудь. На передней то тройкѣ мужчина сидѣлъ и женщина, а промежъ нихъ не то еще человѣкъ, не то узелъ какой то. Гляди, что грабители.
— Вѣдь они отъ насъ скакали, — тревожно замѣтилъ Лука Осиповичъ.
— Мало ли тутъ дорогъ и акромя насъ, баринъ.
— Все же надо поспѣшить, у меня сердце не на мѣстѣ.
— Да вотъ и справились, и поѣдемъ.
Ужъ подъѣзжая къ усадьбѣ, Лука Осиповичъ понялъ, что дома у него неблагополучно. Ворота были заперты снаружи, и отъ нихъ шли слѣды многихъ лошадиныхъ и человѣческихъ ногъ; собаки заливались отчаяннымъ, тревожнымъ лаемъ, и никто не выходилъ на этотъ лай. Лука Осиповичъ однимъ взмахомъ могучей руки сбилъ съ калитки замокъ и вбѣжалъ на дворъ, потомъ въ сѣни. Яшка, держа на-готовѣ охотничій ножъ, слѣдовалъ за нимъ.