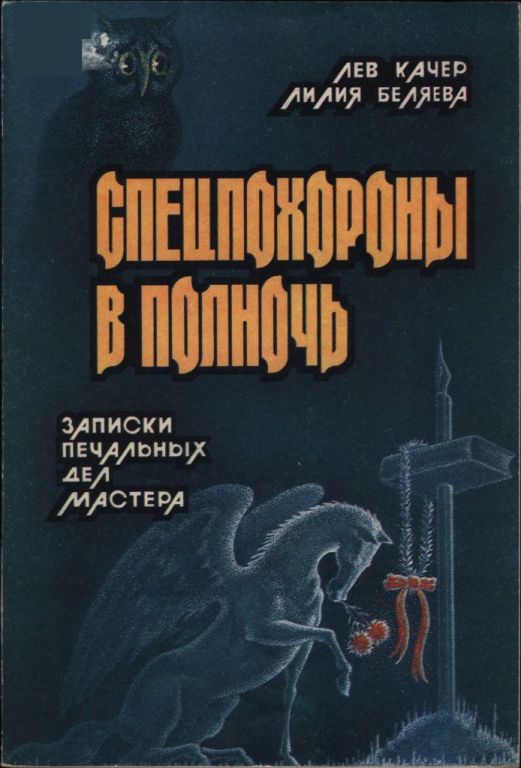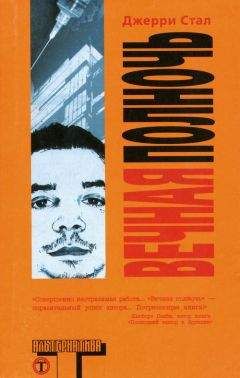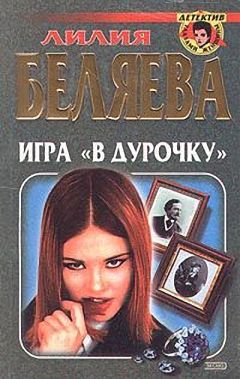А далее он достал бумажный сверток, вынул из него большое, в дырьях, красное знамя, на котором от руки был нарисован серп и молот, и заявил торжественно:
— Это знамя вело наши русские полки в бой на поле Куликовом, где шло историческое сражение с татарскими полчищами и где мы одержали великую победу. Но недоброжелатели порвали это знамя. Ничего! Все равно реликвия, и мы принесли ее сюда ради великого борца за русский народ против евреев.
Племянница усопшего не выдержала, подошла к митингующему, попробовала остановить:
— Разве вам неизвестно… Генри по национальности еврей и очень не любил подобных вам крикунов.
— Общество "Память" только таких евреев и ценит. С этой минуты он является членом нашего общества и членом Политбюро, — и полоумный старик набросил на покойника потрепанное красное знамя…
Тоже примета нашего горького, пугающего, суматошного времени — множество самых разных обществ, в которые ринулись не только нормальные, но и больные люди… И можно, конечно, то и дело запугивать общественность вот таким вот беднягой-полковником, в голове которого все смешалось, а можно просто посочувствовать ему… Сочувствие стоит меньше и нервов, и сил, чем разжигание нездоровых страстей — злобы, агрессивности, ненависти… Зачем из мухи делать слона? Среди нас и без того ходит огромный "слон" взаимной нетерпимости, а это ни к чему хорошему не ведет. Не понимаю, зачем фотографию этого полковника с такой готовностью помещают отдельные наши газеты и журналы, тот же "Огонек". Ведь там тоже не дураки, догадываются, с кем имеют дело… И при этом призывают к гуманизму…
Повторюсь — полезно всем нам время от времени вспоминать о кладбище… Чтоб не зазнаваться уж очень друг перед другом. Всех нас ждет один конец, и слезы близких, что у татар, что у евреев, что у грузин, одинаково горьки и солоны… И в глазах одинаковая боль утраты и тоски… Уж поверьте мне. Чего же делить? Чего же яриться? И Бог, я думаю, хоть и назван у разных народов по-иному — один… к нему наш путь, исключений не бывает…
БОЖЬЕ ДЕЛО
1982 год. Время, когда все у нас было вроде бы замечательно, а мудрый вождь наш Леонид Ильич только и делал, что "раскрывал перед советским народом новые светлые перспективы…" И мы изо дня в день чего-то там "выполняли и перевыполняли", и многие наши писатели получали премии и награды за то, что пели хвалу "Дорогому Леониду Ильичу" и отнюдь не омрачали его существования "наветами" на окружающую "прекрасную советскую действительность". А в это время в больнице умирал Варлам Шаламов… И очень мало кто знал, что уходит из жизни талантливейший человек, правдивейший бытописатель мира ГУЛАГа. О Шаламове было принято говорить шепотом, с оглядкой, чтоб не подслушали осведомители… Было известно, что написал он "самую страшную правду", много страдал и теперь не совсем в себе…
Как всегда, все началось для меня с телефонного звонка:
— Лев Наумович, огромная к вам просьба — помогите, умер Шаламов…
Осень. Дождливо и ветрено.
— Хорошо. Где? Когда? Понятно.
Такой у нас состоялся разговор с Лидией Корнеевной Чуковской. И спустя примерно час мы уже с ней сидели рядом, и она делилась со мной своими опасениями:
— Он же для властей не более, чем диссидент, то есть ничто, то есть враг, подрыватель устоев. И они, конечно, не позволят похоронить его по-человечески, на кладбище в Москве, где к могиле смогут приходить тысячи и тысячи… Поэтому очень прошу вас, Лев Наумович, помочь нам, помочь всем, кому дорога правда и память о Варламе Шаламове, — сделать все и добиться места… Это Божье дело! Это вам, поверьте, зачтется потомками! Нельзя иначе!
Мне было отрадно слышать эту темпераментную, бескомпромиссную речь. Ведь не о своем, личном болело сердце… И при этом никаких ожиданий чего-то приятного, а одних только неудобств, сложностей, конфронтации с сильными мира сего…
Я "проникся" и пообещал сделать все, что смогу, хотя понимал, как мало в моей власти, как "необязателен" сам Шаламов для аппаратчиков того же Моссовета.
Но — голь на выдумки хитра. Решил действовать по возможности мягко, уповая на сердобольный, приятельский тон. Все же мы люди. Растопить даже заледенелое бюрократическое сердце можно, если очень постараться и если звезды тому споспешествуют…
И ведь сколько раз "не выгорало", сколько раз получал отказ от Моссовета, едва заикнусь, мол, писатель был известный, надо бы Новокунцево… "Какой же известный, если я его не знаю?" И кончено.
Но сейчас я знал, что волнуется Лидия Корнеевна и те, кого она мне назвала "друзьями Шаламова", и с отказом вернуться было немыслимо. И в лучшей своей просительно-страдальческой манере заговорил о Шаламове с "высоким" представителем всего, можно сказать, кладбищенского ведомства столицы.
— Володя, — пел я почти нежно, — вообрази, умер великий писатель, весь Союз скорбит… Никто не ожидал… Толпы народу…
А этот Володя, я уж это знаю точно, кроме "Мойдодыра", не читал ничего. Но жму дальше:
— Если его захоронить где-нибудь далеко от Москвы — нам с тобой потомки не простят, и вполне вероятно, что вскоре появится заметка, где и ты, и я получим такое… такое…
Похоже на шантаж? Вы правы. Но что было делать, если по мановению правой руки Володи усопший мог равно оказаться и в раю и в аду, и не с кого спросить.
— Действительно, он… этот… большой писатель? — спрашивает озадаченный Володя.
— Поверь, поверь мне! — отзываюсь пылко и страстно, и впиваюсь глазами в его руку, в кончик авторучки…
— Ну, ладно, — слышу и не верю, и благославляю Володину некомпетентность в вопросе "кто есть кто". — Ладно, пусть лежит на Новокунцевском…
Как описать радость, распиравшую меня? Торжество победителя, охватившее все мое существо? А как счастлива была Лидия Корнеевна, как горячо благодарила меня!
На похоронах я впервые увидел, так сказать, весь цвет советского диссидентства, всех "инакомыслящих", то есть давно сообразивших, куда катится наше общество под вопли групп скандирования: "Ура! Ура! Ура!" И я понял, что "попался"… Что тут-то и начнется нечто, не входившее в протокол… Когда же кортеж двинулся в сторону