class="p1">– Шутка…
«Смейся паяц над разбитой любовью».
– Не обижайтесь… Не обижайся. Я опять ерунду сболтнула. – В глазах девушки плескалось сострадание. – Пойдем.
В моих руках уже оказались выуженные из чемодана банка кофе и пачка печенья. Мешавшие вещи валялись разбросанными по всему полу. Комната была маленькая с одной кроватью и одиноким стенным шкафом для одежды и теперь еще одиноким мной. Смотреть там было совершенно не на что. Разве изучать свою трагическую внешность в зеркале. Тьфу! Да я бы ничего и не увидел.
Мы молча спустились на первый этаж и оказались в маленьком служебном помещении с потрепанным диваном и столом с общепитовской посудой и одной общепитовской чашкой. Там же стоял электрический чайник и пакет с бутербродами. Я бухнулся на диван и пытался наблюдать, как хозяйка возится с кипятком. Если бы не тупой, крупноватый нос, ее можно было бы назвать красивой. Вот тебе и сюжет для романчика: рухнувшая личная вселенная, усыпанная пеплом погибшей любви; добрая самаритянка, пригревшая мою израненную душу; первые робкие побеги новых чувств, пробивающиеся на пепелище. Или нет – русский детектив Марлоу, легко перешагивающий через труп очередной возлюбленной, чтобы оказаться в следующей постели. Дальше – в лучших традициях романов Генри Миллера. Полный бред! Неужели же это может быть правдой – то, что сегодня случилось. А как же еще? И я снова начал погружаться в тупое отчаяние.
– Здрасти, Любовь Михална, – просунулась в дверь пожилая уборщица и резко остановилась, обнаружив мое присутствие, – шо, землячка повстречали. Доброго здоровьица. – Это мне. – Я еще от двадцать пятой ключи возьму, и все на сегодня.
– Да, да, конечно. – Люба повернулась ко мне, – Я в Петербурге, в Политехе училась. Только в прошлом году закончила. Домой вернулась, а работы нет. Теперь вот администратором. Сначала очень скучно было. Теперь пообвыкла. Как там?
– А что ему будет, городу-то? Он же каменный. Что-то рушится. Что-то ремонтируют. По большому счету перемен не заметно.
– Да, когда все под боком, внимание обращаешь не особенно.
– Из стойла в хлев, из хлева в стойло.
– Как?
– Работа – дом – работа. Почти по Марксу. Так вот. А я еще и в аспирантуре учился. В Эрмитаже последний раз был года три назад. В Петродворце когда – забыл уже. Хорошо если с друзьями на выставку какую… Бывал раньше и в ваших общагах. Там на Лесной. Ты где жила?
– На Лесной.
– Вот–вот. В десятке у меня приятель кантовался. Сейчас тоже все позаканчивал, – а в голове вертелось что-то страшное. Ехал, думал, хотел, любил. Сейчас вот болтаю о всякой ерунде, а ее нет. Уже сутки как нет. Все рухнуло.
– Ты знаешь, я пойду, – сказал и резко поднялся с дивана.
– А кофе?
– Не сейчас. – И быстро вышел, чтобы не нарваться на новый вопрос. Поднялся к себе и попытался привести в порядок вещи, только бы что-нибудь делать. Не получилось. И, не глядя в зеркало, я бросил в лицо несколько пригоршней тепловатой воды, и вышел на воздух. ТАКАЯ боль не может испытывать слишком долго. Если не хватит сил ее вынести, она сама вынесет все к черту. Позитивная мыслишка – нечего сказать!
Внутри существовал только омут пустоты, засасывающий как чудовищный смерч. Я специально выбирал сравнения позаковыристей, потому что если еще и ощущал себя кем-то, то только покойником с удачно наложенным макияжем. Можно было еще поизголяться над собой, таким несчастным. Сыграть очередную роль мученика. Но пока даже этого не получалось. Смерть? Театральный жест высокопарного слюнтяя. Только ведь она не имеет никакого отношения к действительности.
И одна тоска соединяла меня еще с окружающим пейзажем.
Погода менялась с калейдоскопической быстротой. Ветер усиливался, заволакивая небо жирными сизыми тучами, и море чернело вместе с ними. Пляж быстро пустел. Люди почти бежали мне навстречу. Обычные, милые беззаботные отдыхающие. И сейчас их благоденствие делало меня еще более несчастным. В мозгах гуляла тупая ненависть к их благополучию, мелким заботам и маленьким радостям. Ненависть ко всему миру, в котором они живы, они существуют, а она – нет. Я жив. А она – нет. И опять все по кругу – заурядная истерия, от которой никуда не денешься, как не хорохорься. Она накатывалась изнутри и не считалась ни с какими доводами рассудка. Я вообще старался не думать. Только жить с этим бушевавшим морем. Я жил!?!
Одиночный баклан сорвался с прибрежных камней, спугнутый моим приближением, и полетел сквозь ветер, неуклюже работая крыльями. Черная птица над черным морем.
Берег тянулся вдоль узкой полоски пляжа под нависающим глинистым обрывом. В нескольких местах это однообразие разрывалось нагромождением скальной породы. И я пошел туда. Пошел лишь для того, чтобы идти. Уходил от строений пансионата со всеми его обитателями и обстоятельствами. Буря накатывалась на берег, швыряя в лицо соленые брызги, перемешанные с диким ливнем. Порывы ветра заплетали ноги. Необходимость двигаться поглотила все остальное. И я шел и шел, перелезая через груды растрескавшихся валунов. И дальше – галька, песок, бутылки, обрывки морской травы, гниющие туши дельфинов, старые кости, полиэтилен. Пространство потеряло время, по крайней мере, его отсчет. Сумерки тянулись бесконечно долго. Мозги прокручивались на холостом ходу. Единственным ритмом стала необходимость переставлять ноги. Наконец, усталость взяла свое. Взгромоздившись на подвернувшийся обломок скалы, я огляделся. Берег стал совершенно пуст. Вокруг существовали только ветер и волны. В их штормовом крещендо меня некому было услышать. И я заорал, завыл как волк, задирая голову в слепое брюхатое небо.
Комья пены летели через узкую полоску пляжа, облепляя стену прибрежного обрыва. Выброшенные морем жгуты иссиня–черных водорослей извивались в песчаной жиже. Влажные частички неслись в воздухе, забивая глаза и рот. Ветер выл, продираясь сквозь грохот обрушивающейся влаги, визжал и плакал. И я орал вместе с ними. Орал до боли в глотке. Пока не выбился из сил. Потом сполз с камня, втиснулся под его защиту, свернувшись калачиком на песке и, кажется, почувствовал облегчение. Женщина с именем иудейской принцессы, ставшей наложницей разрушителя Иерусалима, отступила от меня. Или я от нее отступился.
Сколько времени продолжался этот столбняк, догадаться невозможно. Когда я снова открыл глаза, вокруг стояли все те же сумерки. Ветер и море захлестывали пространство. И меня. Зубы стучали. Мышцы свело от холода. Пальцы не слушались. А внутри – пустота.
Волны продолжали набрасываться на берег. Но дождь прекратился, и среди лоскутьев накатывающихся облаков уже угадывались частички чистого неба. Начало осенних штормов. Хорошо, что только начало. Бархатный сезон еще цеплялся за жизнь. Но как-то неотчетливо.
Цвет моря
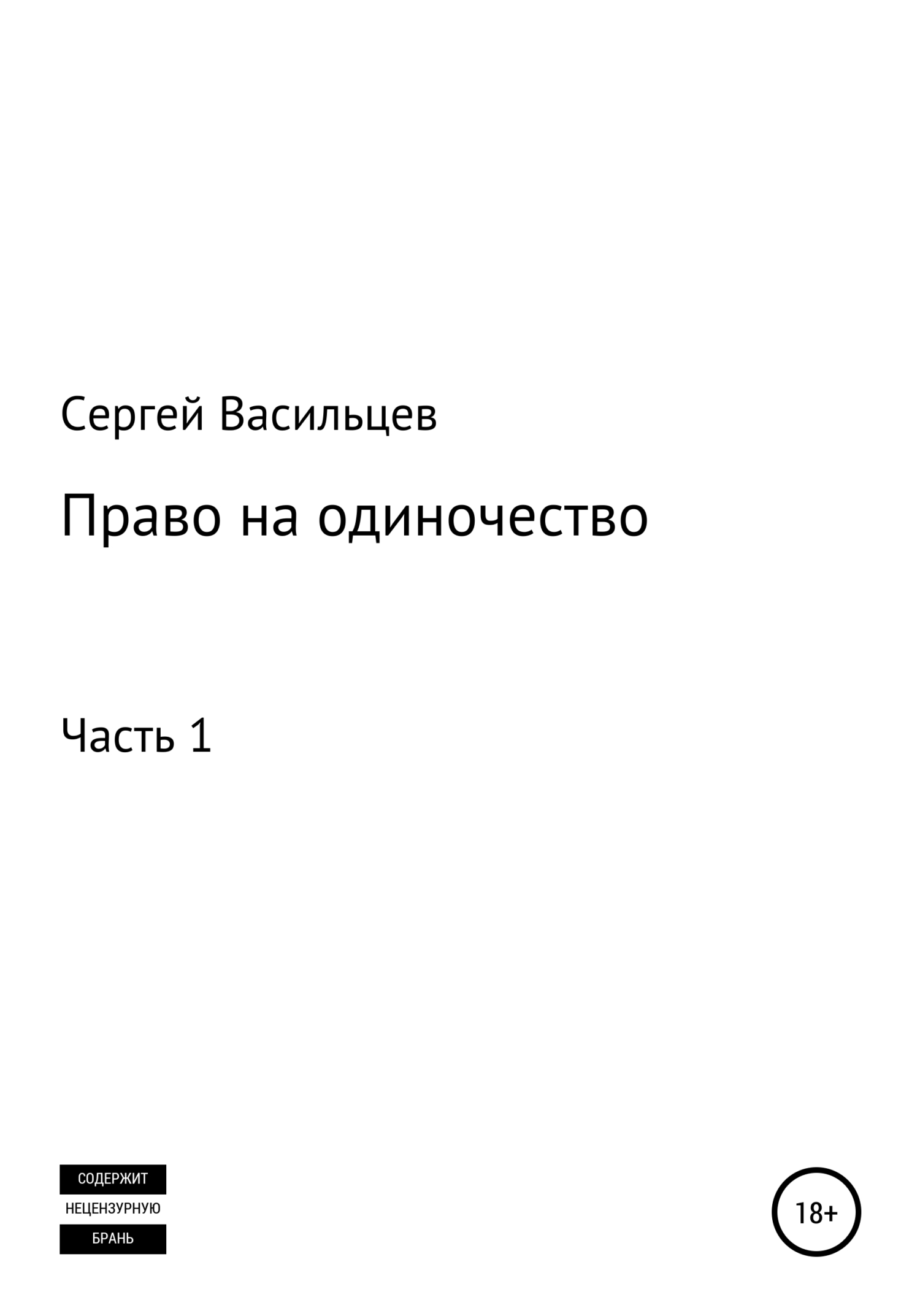



![Анджей Ясинский - Ник (Часть 3) [СИ]](https://cdn.my-library.info/books/no-image.jpg)