шел сутулясь, он не взял даже зонтика и не надел высоких болотных сапог. Он мог бы заплакать, но не плакал. Бесконечный, но мелкий дождь неумеренно истязал худое и слабое тело Сережи, и в этом было что-то смешное и несправедливое. К вечеру он натолкнулся на Медного всадника, воспетого Пушкиным, и, сжав кулаки, в которых были размокший табак и горсть хлебной дождевой похлебки, весь подавшись вперед, плюнул всем своим лицом на лошадь ненавистной судьбы, отобравшей у него самое дорогое, что у него было, — труп любимой женщины. Он плюнул и закричал всем своим ртом, зубами, больными деснами, гнойными гландами и вспухшим беременным языком. Он закричал, не слыша себя, и бил, не зная того, правой ногой невозмутимые камни. Ногой, обутой в ботинок одна тысяча триста тридцать второго года изготовления. Он бил и кричал о том, что не знает, куда уходят трупы убитых нами женщин, не знает, не знает, не знает. Что нет такого места в его обремененном рассудком мозгу, где не слышался б романс «Утро туманное, утро седое». И еще, еще кричал он эти невыносимые последние строчки:
Слушая говор колес непрестанный,
Глядя задумчиво в небо широкое.
Он хватал лошадь за ноги, желая, чтоб вспомнила она и церковный Собор 585 года, и Пизанский собор при Цезаре Борджиа, где триста кардиналов заявили, что у женщин нет души.
— А я, — кричал Габа, — не кардинал! А ты, — выворачивался Сережа, — тупая скотина, вставшая на дыбы. И нам, — добавлял он, внахлест акцентируя каждый последний слог, — никогда, слышишь ты, никогда для этой души не найти подходящий труп!
Замолчал, захлебнувшись «трупом», повернулся и пошел в надвигающуюся полночь.
— Кобыла ты, — угрюмо и тихо добавил он. Достал из кармана хлебную лужу и выпил ее, и табак прожевал, быстро двигая челюстью, держась рукой за плечо человека, как-то смутно появившегося рядом и сказавшего уютным, симпатичным голосом: «Друг, пошли домой, трамваи уже не ходят».
И Сережа сказал ему: «Ты — идиот».
В переполненной прошлым квартире Сережа раскладывал письма. На диване, на столе, в туалете и на вешалке. Письма к Марине. Отпуск подходил к концу, и в доме было много пустых бутылок. Они звенели и катались по полу согласно непонятным никому законам, и от этого Сережа падал. Писем было 4214 листов машинописного текста с интервалом 2 на бумаге импортного производства 2027 года изготовления фабрики города Лейпцига.
— А ты сюда, а ты вот так, а ты вот здесь, — приговаривал он каждому письму отдельно. К письмам, посвященным своему прошлому и будущему, он обращался на «вы». К настоящему же «тыкал» и гордился своей отвагой.
— Мелюзга ты моя, — ласково гладил он 147-ю страницу, в которой были описаны все дары Господни и тяжелый путь Левиафана, поглотившего Иону. Он тихо плакал, укладывая на мокром пороге послание к филистимлянам, а когда подкатилась очередная бутылка, и он упал, сильно ударившись головой об пол, Габа по-детски закрыл лицо руками и разрыдался вовсю, размазывая грязные слезы по худой волосатой груди. Потом, на четвереньках, он трудно пришел в комнату и, подсев по-турецки к печатной машинке 7 года до нашей эры, вставив чистый лист, единым прикосновением отбил: «Облака над дорогой».
В трусах работать было холодно, но он печатал и печатал до самого вечера. Потом изнемог. И понял, что надо идти. Принес из прихожей свои мокрые древние ботинки и стал их сушить Марининым феном красного цвета. Ботинки нагрелись ужасно, но высыхать, видимо, уже не могли. Сережа надел их мокрыми. Когда нашел брюки, он надел и их, причем при этом доверительным тоном произнес три раза: «А чтоб вы не думали!» Одевшись, он устал и, еще посидев на дорожку, выбежал в огромный февраль 37 года за сигаретами «Чайка». Забежал в гастроном, купил немного еды, питья и после все нес очень бережно, пытаясь в морозно-мутном сумраке разглядеть вовремя любую пустую бутылку, если таковая бросится ему под ноги. В каком-то странноватом переулке с удивлением и трепетом увидел мороженщицу и купил четыре эскимо, но, взяв себя в руки, одно отдал обратно.
Улицы были гулкие от мороза. Люди пробегали мимо, не видя друг друга, и многие щупали уши синими пальцами, проверяя и уши, и пальцы на степень омертвления. В домах зажигались огни, и Сережа с восторгом думал, что вот, черт возьми, все как у нас, и окна, и свет, и поземка метет очень колко и чисто. Через два квартала в Щавельном переулке на днях родился его отец, и Сереже до смерти захотелось проведать младенца, а на могилы Сережа ходить не любил. Там ему всюду чудились ангелы и мешали думать с отцом. Однако зайти не решился просто оттого, что одет был плохо. Постоял минут двадцать, заглядывая в окна на третьем этаже, обтанцевал подъезд и написал носком ботинка на твердом и зеленом снегу, упрямо выводя каждую букву: «Папа, я очень Тебя люблю».
Когда он пришел домой, волосы у него были обледеневшие. Он мучительные десять минут пытался понять: «Почему?» И не смог. Не раздеваясь, присел на тумбочку в прихожей и как-то неприязненно ощупал свою грудь, в которой болело его сердце. Отдышавшись, побрел в кухню и налил в кастрюлю воды. Высыпал туда пачку чая и зажег все остальные конфорки. Посидел еще на кухне и выпил одно сырое яйцо. Чуть не стошнило. Томительно и монотонно ползало в комнате время, и Габа швырнул в него утюг. Утюг пролетел, сколько смог, и ударился носом в шкаф. Посыпались тарелки. Их звон раздробил ватное ужасное ползанье часов и столетий в маленьком Габином жилище. Гадкая возня прекратилась. Габа вздохнул, выключил чай. Посмотрел на него и снова включил. Взял наугад страницу из лежавших на холодильнике писем Марине и стал читать.
«…Девочка моя, теперь все это, конечно, не так важно. Но заметь, ведь даже когда я изменял тебе, все равно не переставал любить. Ты скажешь… Да, я знаю, что ты скажешь, но ведь дело не в том…»
Габа сморщился и помотал головой. Перевернул страницу. Там на чистом поле стального цвета крупным Габиным почерком было написано: «Дороги не было почти никакой». С этой страницей в руке он пришел в прихожую. Достал из сетки бутылку абсента и, прижав ее к груди, достал еще две сосиски и хлеб. Побрел в зал и, расположившись возле своего пишущего чудовища, сервировал кусок пола. На кухне нашлась почти целая тарелка. И нож с тяжелой темно-синей рукояткой.
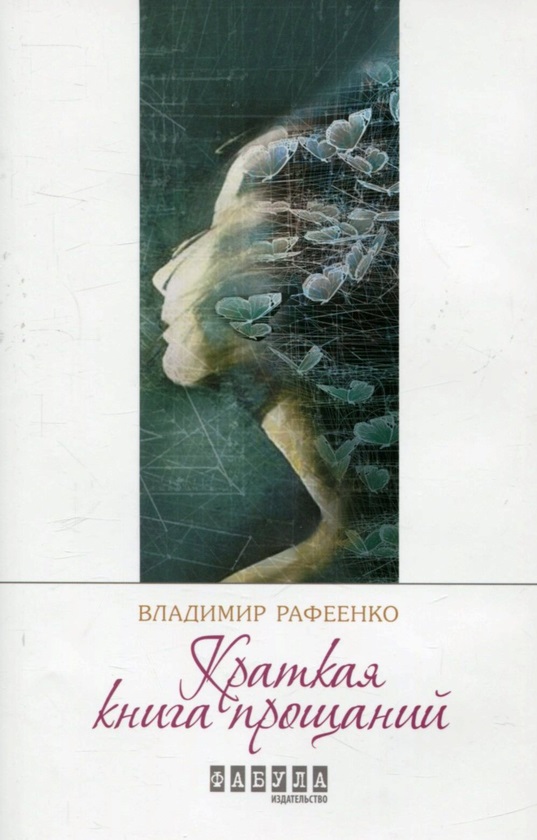

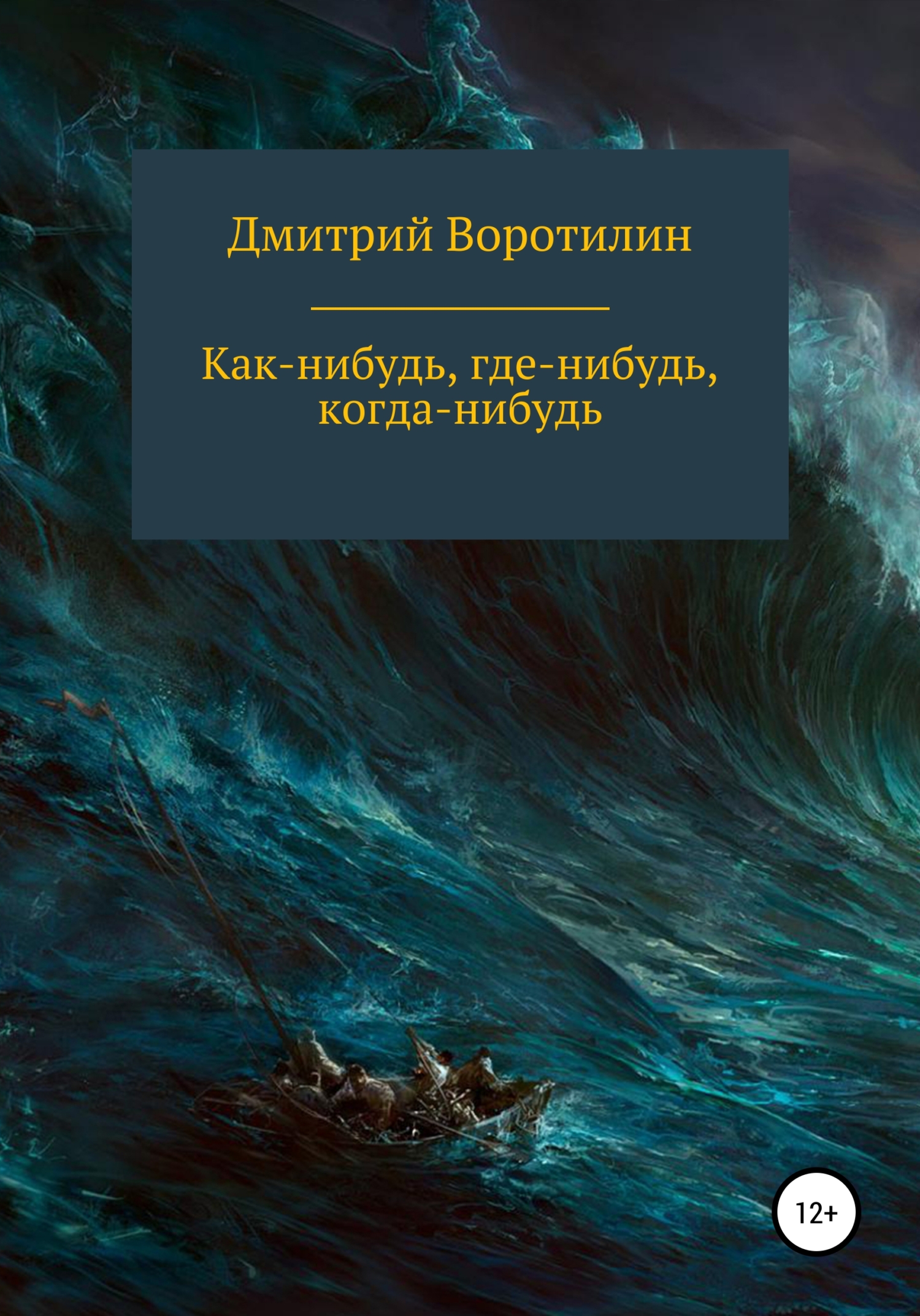
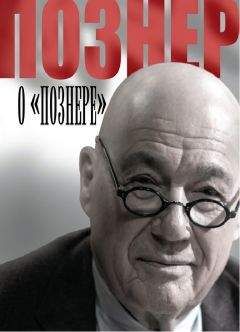
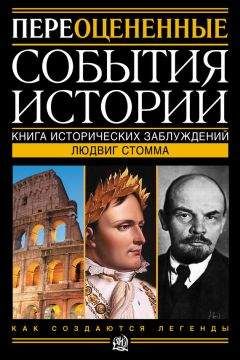
![Владимир Рафеенко - Московский дивертисмент [журнальный вариант]](https://cdn.my-library.info/books/120215/120215.jpg)