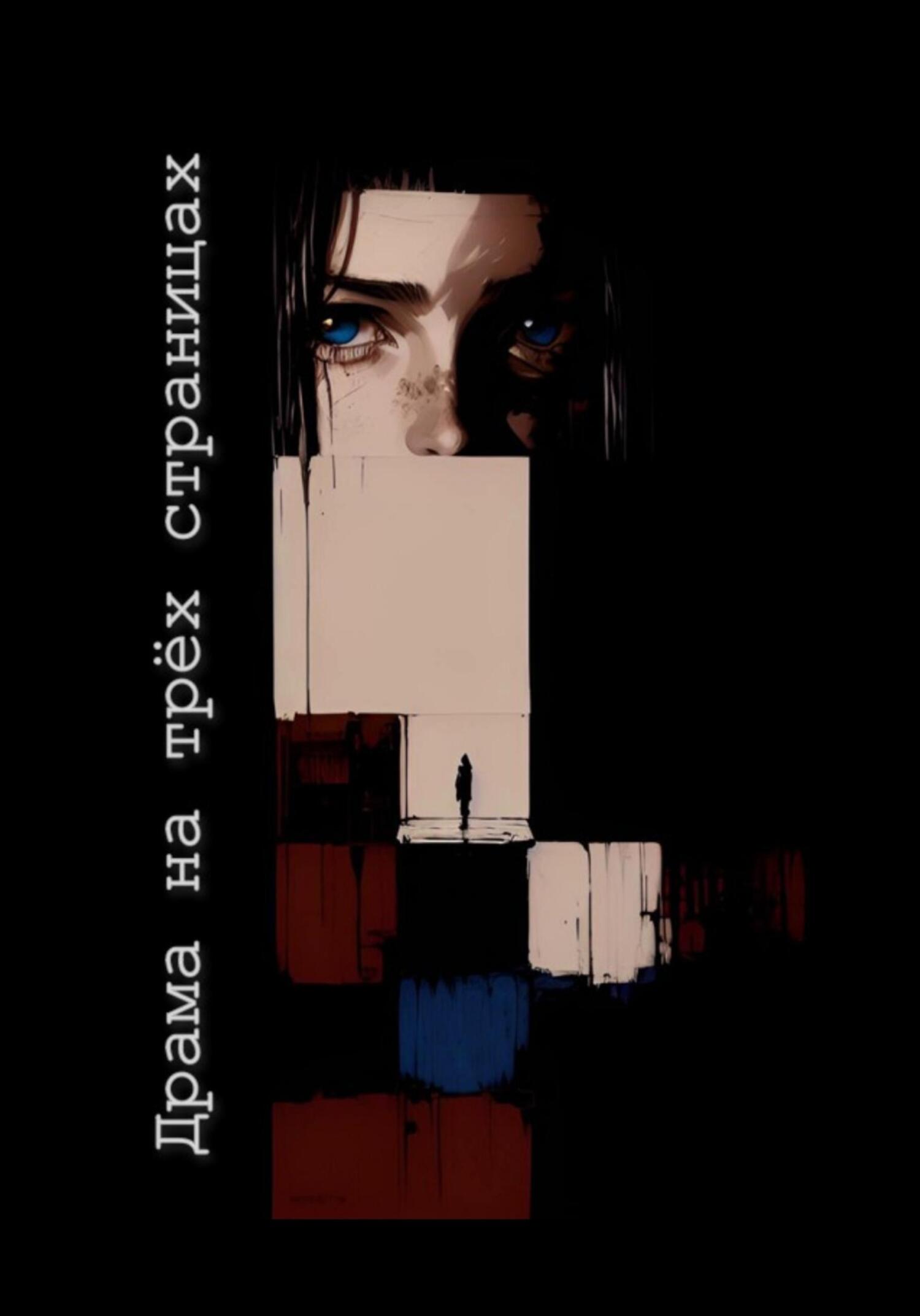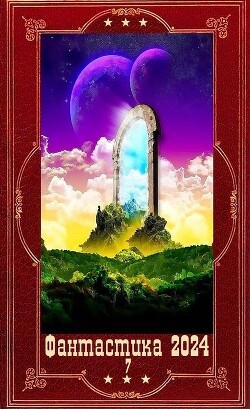обед к нам не приходил.
Когда сестренка родилась, меня не сразу пригласили на неё посмотреть. Говорили, что она родилась раньше времени и должна «лежать в инкубаторе». Оказалось, что у нее много проблем со здоровьем и она не может самостоятельно дышать.
Через несколько лет на выходные отец стал отвозить меня к бабушке на дачу, куда привозили и мою сестру. Я во всем ей уступал. Однажды она разбила вазу, а я сказал бабушке, что это сделал я. Сестра посмотрела на меня своими голубыми глазами, засмеялась и убежала.
В другой раз ребята на улице начали смеяться над ней из-за ее трубки, и я вступился за неё. Драться не пришлось: я был на голову выше их и на пару лет старше, поэтому ребята убежали. А когда я обернулся, то увидел, что моя сестра упала, и её дыхательная трубка выскочила из баллона. Вокруг никого не было. Она не могла дотянуться до закреплённого на ней баллона, а я стоял и смотрел, как из трубки шипя выходит воздух, а лицо сестры становится всё белее. Она смотрела на меня, а я не двигался с места. Внезапно из-за спины я услышал крик отца: «Ну что стоишь? Растерялся, что ли?» Он взял трубку и быстро подсоединил её к баллону с насосом. Сестра начала дышать. Я не мог побороть злость на отца и лишь соврал: «Да, растерялся».
Как раньше я хотел услышать эту фразу! Как я хотел, чтобы кто-нибудь сказал мне, что я похож на маму. Но в тот момент всё перевернулось. Мне стало стыдно. И я отчаянно стал хотеть быть похожим на отца.
Александр Можаев. БАЛЕРИНА — БАБА ЛЁЛЯ
«Вжик, вжик, вжик…»
Ранним утром коса поёт звонче. Баба Лёля, широко раскидывая ноги, пританцовывая, идёт впереди. Я вижу лишь её сутулую спину да большие мужские руки.
«Вжик, вжик, вжик».
В ровный валок ложится метличка. Я с любопытством жду, когда же она остановится, передохнёт.
«Вжик, вжик, вжик…»
Качается впереди её тень. Я приехал на недельку отдохнуть к бабе Лёле, но разве усидишь без дела, если старуха до зари на косьбу поднялась, вылёживаться — со стыда пропадёшь.
Утро ясное, утро свежее. «Вжик, вжик», и кажется не коса — росинки звенят. Я прибавляю ход, но старуха не уступает. Двужильная.
— Баба Лёля, какой тебе год?
— Как? — баба Лёля, наконец, приостанавливается.
— Какой тебе годок? — кричу я.
— Да ты не ори, я чай при памяти. Годок спрашуешь? Я ещё на ребят поглядываю, — смеётся она, утирая широким рукавом рубахи пот. — В войну — двадцать два было…
Снова поёт своё «вжик, вжик» коса — ложится трава. Баба Лёля умеет разговаривать, не отрываясь от дела.
— Я в войну такой неумёхой была — срам, — не оборачиваясь, говорит она. — За Васей сроду ничего не знала — всё он. Вася со двора — хоть помирай, ничего не ладится. Трое детей не дают шагу ступить. Батька твой старшим был — ему пять, а энти… Взяла Васину косу, пошла в сад. Елозю-елозю — нет дела. Что ни махну, то в землю «носом» воткнусь, то на пень налечу. Я реветь во весь рот. Вот он, дядя Устин: «Чего кричишь?» — «Да вот Вася ушёл… Воюет, а у меня дома коса разлаженная». Взял дядя Устин косу, махнул — трава так и легла. «Э, это ты, девка, разлаженная… она тебе не по росту…» Я пуще реветь. «Не кричи, я налажу». Пристроил ручку по мне. Взялась — легче получается, а сил нет. Вот дядя следом ходит и учит. Ему тогда девятый десяток шёл. Пособлять — никудышний, спасибо, совет даёт: «Ты, Лёля, на бугорок не коси, не потянешь, ты под бугорок, да под ветер. Под ветер трава сама под косу клонится. На пяточку жми, на пяточку». И пошла я косарить. «Ручками» не ходила — все кулигами танцевала. Здесь кулижку выхвачу, там, потом что останется — добиваю. Бывало, попервах самое худшее валю. Бью, бью — вот уж сил нет, а тут пыреёк остался, а как кто выхватит? — нет, давай дальше бить. И так покуда не упаду с ног. Вот опять коса разладилась, ручка сломалась — опять реву. Как новую не прилаживаю — нет дела. К дяде Устину. «Ну, что у тебя?» — «Ручка не гнётся. Какую ни гну — все ломаются». «А ты из чего гнёшь?» «Из вербы, как Вася». «А где вербу берёшь?» «Где ж, тут же, за садом». «То не та верба, Вася из таловатки гнул». Принесла таловатку, приладила ручку. Косить — опять беда, коса притупилась, не берёт. Как ни бью бруском — не берёт. Давай до Устина. Взял тот молоточек, сел к коваленке. «Тюк, тюк», а сам уж по косе не попадает, Бог весть куда лупит. «Дядя, ты, чай, разучился?» — «Что там разучился, я не вижу её, холеру». Что не видит глазами — признаёт, а не слышит — тут обижается, в оскорбленье глухим слыть. Бывало, кричу-кричу ему — не докличешься. «Дядя, ты чи глухой?» — «Чего? А-а. Чё там глухой — не глухой. Я не пойму только». Беру молоток, давай сама тюкать. Дядя Устин за плечом кряхтит: «На мягкую траву вверх оттягивай, на целинку — к низу…» Вот и косы сама научилась оттягивать. Всё через руки прошло, пока детей поднимала. Васе на фронт пишу: «Не убивайся там, Вася. Я сено уже накосила, а значит, слава Богу, с детишками переживём». Потом как спужаюсь: вдруг как не поверит, что накосила сама. Ещё придумает там чего, и дописываю: «Сено косила под приглядом дяди Устина». А с дяди Устина какой приглядчик… За ним самим кабы кто смотрел, того и гляди, в своем двору заблудится.
Я хороший косарь, меня с мальства баба Лёля учила — стыдно плохо косить, но не перестаю удивляться ей, откуда в ней эта сила, двужильная выносливость.
— Баба Лёля, ты у меня как балерина, — шучу я.
— Что такое говоришь, Сашка?
— Как балерина, говорю. Учёные подсчитали, что балерина приравнивается