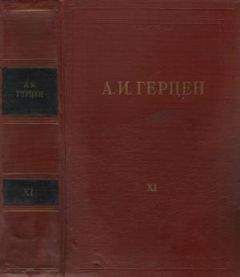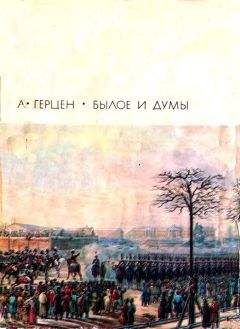100
лорд верховный судья (англ.). – Ред.
постановки (франц.). – Ред.
верховного судьи (англ. chief-justice). – Ред.
становиться в очередь (франц. faire la queue). – Ред.
человекоубийстве (англ.). – Ред.
Пардигон, схваченный в Июньские дни, был брошен в тюльерийский подвал; там находилось тысяч до пяти человек. Тут были холерные, раненые, умиравшие. Когда правительство прислало Корменена освидетельствовать положение их, то, отворивши двери, он и доктора отпрянули от удушающей заразительной вони. К окошечкам soupirail <отдушины (франц.)> было запрещено подходить. Пардигон, изнемогая от духоты, поднял голову, чтоб подышать; это заметил часовой из Национальной гвардии и сказал ему, чтоб он отошел или он выстрелит. Пардигон медлил; тогда почтенный буржуа опустил дуло и выстрелил в него; пуля раздробила ему часть щеки и нижнюю челюсть; он упал. Вечером часть арестантов повели в форты, в том числе подняли раненого Пардигона, связали ему руки и повели. Тут известная тревога на Карусельской площади, в которой Национальная гвардия со страха стреляла друг в друга; раненый Пардигон выбился из сил и упал; его бросили на пол в полицейскую кордегардию, и он остался с связанными руками, лежа на спине и захлебываясь своей кровью из раны. Так его застал какой-то политехник, разругавший этих каннибалов и заставивший их снести больного в больницу. Помнится, я этот случай рассказал в «Письмах из Италии и Франции»… но это не мешает протверживать, чтоб не забывать, что такое образованная парижская буржуазия.
защиты (франц.). – Ред.
единоверцев (франц. coreligionnaire). – Ред.
свидетельские показания (англ.). – Ред.
скандально (англ.). – Ред.
самохвальства (франц.). – Ред.
по должности (лат.). – Ред.
буквально (франц.). – Ред.
Против статьи «Теймса» аббат Roux напечатал:
«The murderer Barthélemy.
A monsieur le rédacteur du „Times”.
Monsieur le Rédacteur, – Je viens de lire dans votre estimable feuille de ce jour, sur les derniers moments du malheureux Barthélemy, un récit, auquel je pourrais beaucoup a jouter, tout en y relevant un grand nombre de singulières inexactitudes. Mais, vous comprenez, Monsieur, tout ce que m’impose de réserver ma position de prêtre catholique et de confident du prisonnier.
J’étais, donc, résolu de demeurer étranger à tout ce qui serait publié sur les derniers moments de cet infortuné (et c’est ainsi que j’avais refusé de répondre à toutes les demandes qui m’avaient été adressées par des journaux de toutes les opinions); mais je ne puis laisser passer sous silence l’imputation, flétrissante pour mon caractere, qu’on met adroitement dans la bouche du malheureux prisonnier, quand on lui fait dire: „que j’avais trop bon goût pour le troubler au sujet de la religion”.
J’ignore si Barthélemy a réellement tenu un pareil langage, et à quelle époque il l’a tenu. S’il s’agit de mes trois premières visites, il disait vrai. Je connaissais trop bien cet homme pour essayer de lui parler de la religion avant d’avoir gagné sa confiance; il me serait arrivé ce qui était arrivé à d’autres prêtres catholiques qui l’ont visité avant moi. Il aurait refusé de me voir plus longtemps; mais dès ma quatrième visite la religion a été le sujet de nos continuels entretiens. Je n’en voudrais pour preuve que cette conversation si animée, qui a eu lieu entre nous dans la soirée de dimanche sur l’éternité des peines, l’article de notre, ou plutôt de sa religion, qui lui faisait le plus de peine. Il refusait, avec Voltaire, de croire, que –
Ce Dieu qui sur nos jours versa tant de bienfaits,
Quand ces jours sont finis, nous tourmente à jamais.
Je pourrais citer encore les paroles qu’il m’adressait un quart d’heure avant de monter à l’échafaud; mais, comme ces paroles n’auraient d’autre garantie que mon propre témoignage, j’aime mieux citer la lettre suivante, écrite par lui le jour même de l’exécution, à six heures du matin, au moment où, selon le récit de votre correspondant, il dormait d’un profond sommeil:
„Cher Monsieur l’Abbé, – Avant de cesser de battre, mon cœur éprouve le besoin de vous témoigner toute sa gratitude pour les soins affectueux que vous m’avez si évangeliquement prodigués pendant mes derniers jours. Si ma conversion avait été possible, elle aurait été faite par vous; je vous l’ai dit: je ne crois à rien! Croyez bien que mon incrédulité n’est point le résultat d’une résistance orgueilleuse; j’ai sincèrement fait mon possible, aidé de vos bons conseils; malheureusement, la foi ne m’est pas venue, et le moment est proche… Dans deux heures je connaîtrai le secret de la mort. Si je me suis trompé, et si l’avenir qui m’attend vous donne raison, malgré ce jugement des hommes, je ne redoute pas de paraître devant notre Dieu, qui, dans sa miséricorde infinie, voudra bien me pardonner mes péchés en ce monde.
Oui, je voudrais pouvoir partager vos croyances, car je comprends que ceux qui se réfugient dans la foi religieuse trouvent, au moment de mourir, des forces dans l’espérance d’une autre vie, tandis que moi, qui ne crois qu’à l’anéantissement éternel, – je suis obligé de puiser à ce moment suprême mes forces dans les raisonnements, peut-être faux, de la philosophie et dans le courage humain.
Encore une fois merci! et adieu!
E. Barthélemy.
Newgate, 22 janvier, 1855, 6 h. du matin.
P. S. Je vous prie d’être auprès de M. Clifford l’interprête de ma gratitude».
J’ajouterai à cette lettre que le pauvre Barthélemy se trompait lui-même, ou plutôt cherchait à me tromper, par quelques phrases, dernières concessions faites à l’orgueil humain. Ces phrases auraient disparu, je n’en doute pas, si la lettre eût été écrite une heure plus tard. Non, Barthélemy n’est pas mort incrédule; il m’a chargé, au moment de mourir, de déclarer qu’il pardonnait à tous ses ennemis, et m’a prié de me tenir auprès de lui jusqu’au moment où il aurait cessé de vivre. Si je me suis tenu à une certaine distance, – si je me suis arrêté sur la dernière marche de l’échafaud, l’autorité en connait la cause. Du reste, j’ai rempli religieusement les dernières volontés de mon malheureux compatriote. Il m’a dit en me quittant, avec un accent que je n’oublierai de ma vie – „Priez, priez, priez!” J’ai prié avec effusion de cœur, et j’espère que celui a déclaré qu’il était né catholique, et qu’il voulait être catholique, aura eu à son moment suprême un de ces repenties ineffables qui purifient une âme, et lui ouvrent les portes de l’éternelle vie.
Agréez, Monsieur le rédacteur, l’expression de mes sentiments les plus distingués,
L’abbé Roux.
Chapel-house, Cadogan-terrace, Jan. 24».
<«Убийца Бартелеми.
Господину редактору „Теймса”.
Господин редактор, я только что прочел в сегодняшнем номере Вашей уважаемой газеты о последних минутах несчастного Бартелеми – рассказ, к которому я мог бы многое прибавить, указав и на большое количество странных неточностей. Но Вы, господин редактор, понимаете, к какой сдержанности обязывает меня мое положение католического священника и духовника заключенного.
Итак, я решил отстраниться от всего, что будет напечатано о последних минутах этого несчастного (и я действительно отказывался отвечать на все вопросы, с которыми ко мне обращались газеты всех направлений); но я не могу обойти молчанием позорящее меня обвинение, которое ловко вкладывают в уста бедного узника, якобы сказавшего, что „я достаточно воспитан, чтобы не беспокоить его вопросами религии”.
Не знаю, говорил ли Бартелеми действительно что-либо подобное и когда он это говорил. Если речь идет о первых трех моих посещениях, то он говорил правду. Я слишком хорошо знал этого человека, чтобы пытаться заговорить с ним о религии, не завоевав прежде его доверия; в противном случае со мной случилось бы то же, что и со всеми другими католическими священниками, посещавшими его до меня. Он не захотел бы меня больше видеть; но начиная с четвертого посещения, религия являлась предметом наших постоянных бесед. В доказательство этого я желал бы указать на нашу столь оживленную беседу, состоявшуюся в воскресенье вечером, о вечных муках – догмате нашей или, скорее, его религии, который больше всего угнетал его. Вместе с Вольтером он отказывался верить, что „тот бог, который излил на дни нашей жизни столько благодеяний, по окончании этих дней предаст нас вечным мукам”.
Я мог бы привести еще слова, с которыми он обратился ко мне за четверть часа до того, как он взошел на эшафот; но так как эти слова не имели бы иного подтверждения, кроме моего собственного свидетельства, я предпочитаю сослаться на следующее письмо, написанное им в самый день казни, в шесть часов утра, в тот самый миг, когда он спал глубоким сном, по словам Вашего корреспондента:
„Дорогой господин аббат. Сердце мое, прежде чем перестать биться, испытывает потребность выразить Вам свою благодарность за нежную заботу, которую Вы с такой евангельской щедростью проявили по отношению ко мне в течение моих последних дней. Если бы мое обращение было возможно, оно было бы совершено Вами: я говорил Вам: «Я ни во что не верю!» Поверьте, что мое неверие вовсе не является следствием сопротивления, вызванного гордыней; я искренне делал все, что мог, пользуясь Вашими добрыми советами; к несчастию, вера не пришла ко мне, а роковой момент близок… Через два часа я познаю тайну смерти. Если я ошибался и если будущее, ожидающее меня, подтвердит Вашу правоту, то, несмотря на этот суд людской, я не боюсь предстать перед богом, который, в своем бесконечном милосердии, конечно, простит мне мои грехи, совершенные в сем мире.
Да, я желал бы разделять Ваши верования, ибо я понимаю, что тот, кто находит убежище в религии, черпает, в момент смерти, силы в надежде на другую жизнь, тогда как мне, верующему лишь в вечное уничтожение, приходится в последний час черпать силы в философских рассуждениях, быть может, ложных, и в человеческом мужестве.