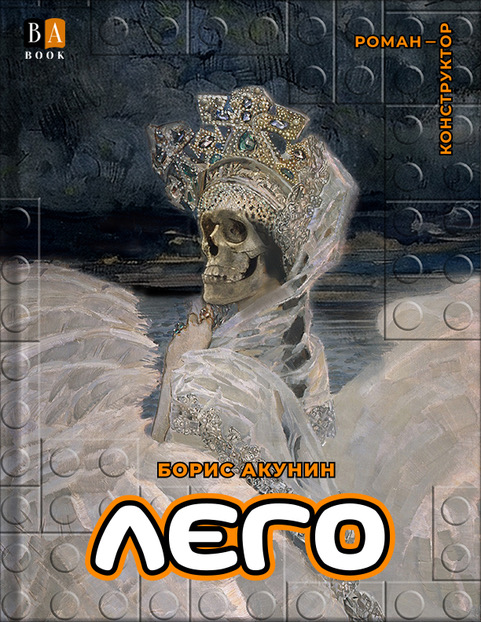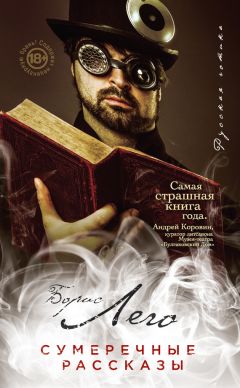перстне Оленин заказал вычернить очень нравившийся ему девиз: TODO O NADA, «Всё иль ничего». Кольцо было немного великовато и вечно поворачивалось то одной, то другой стороной. Загадывая, сбудется что-то или нет, либо делать ему что-то или не делать, Оленин поднимал руку и смотрел. Если выпадало TODO, это было хорошо, если NADA — плохо.
Сейчас он взглянул на палец и увидел, что кольцо повернуто кверху надписью TODO.
Деньги придут нынче, сказал себе Константин Дмитриевич, вновь подошел к окну и вскрикнул.
По улице, колыхаясь на ухабах, ехала ногайская телега, запряженная длинноухой лошадью, а на козлах рядом с возницей сидел Герасим. По довольной физиономии слуги, а также по торчавшим из телеги чемоданам, Оленин тотчас понял: деньги получены, и расторопный Герасим даже успел расплатиться с исправником и забрать багаж, потому и вышла задержка.
Чувство, охватившее Оленина, было смешанным, в нем соединились облегчение и страх, будто сердце сначала вспорхнуло кверху, но тут же было стиснуто холодной и цепкой рукой.
«Теперь в Темрюк. Нынче же к ночи буду там», подумал Константин Дмитриевич с тяжелым, тоскливым чувством.
Воодушевление, с которым он два месяца назад уезжал из Москвы, давно схлынуло. Всю свою жизнь проведший в городском особняке да в милой подмосковной усадьбе, Оленин совсем не знал настоящей, глубинной Руси, и по дороге от станции к станции, с пригорка к пригорку, через неминуемую низинную грязь, в которой вязли колеса, мимо прогоркших нищетой и несчастьем серых деревенек, мимо похожих друг на друга как выводок мышей городишек, мимо церквей с золотыми куполами и непременными нищими на паперти, всё острее ощущал, как проваливается в какую-то топь, откуда не выберешься. Снова и снова он перечитывал письмо смотрителя Пустынько, и теперь видел в длинных цветистых фразах не провинциальное простодушие, а фальшь и пошлость. И потом — что это: «Высокоодобрительная аттестация, данная Его Сиятельством Вашему похвальнейшему намерению, позволяет надеяться, что в Вашем лице Темрюк обретет не сеятеля крамольных искушений, а истинно добронамеренного и богобоязненного просветителя»? Не предупреждение ли, что за приезжим учителем будут следить, чему он учит детей и какие идеи помещает в юные головы? Да уж верно будут! И всякое живое слово, пробуждающее мысль и достоинство, сочтут «крамольным искушением». На что же тогда потратится жизнь? На механическую рутину, на обучение чумазых казачат — точно таких же, что визгливо играют в свайку — алфавиту и таблице умножения? Добро б еще Оленин любил детей, но они всегда казались ему глупы и докучны.
Однако повернуть обратно было совершенно невозможно. Судьба неумолимо влекла Константина Дмитриевича в Темрюк.
И быти тому месту, где царствует смотритель Пустынько, пусту.
3.
Всё оказалось, как догадался Оленин. Прибыла эстафета, с нею пришел конверт от матери с письмом и деньгами. Герасим заплатил долг, забрал багаж, да еще и нанял повозку до Темрюка.
Очень собою довольный, Герасим говорил:
— Только уж вы, Константин Дмитрич, как хотите, а деньги останутся у меня. Целее будут. На что надо, сам потрачу, а вам буду выдавать по надобности.
Оленин не слушал, мрачно читая письмо. «Я так винюсь, что со своею глупой любовью и чрезмерной попечительностью плохо подготовила тебя к враждебности бытия, — писала мать своим красивым смольнинским почерком. — Ты так благороден, так доверчив, так полон высоких помыслов, а жизнь груба, жестока и низменна. Я не нахожу себе места, думая: моего мальчика обокрали, а могли покалечить или убить. Ты единственное, что у меня есть, ты да несколько драгоценных воспоминаний».
Какой же я подлец, подумал Константин Дмитриевич, смахивая слезы, и дал себе клятву никогда, что бы ни случилось, более не лгать той, которая его так любит.
— Едем! Чего тянуть? — сказал он Герасиму. — Что возница? За сколько времени доедем?
— Говорит, дорога сухая, лошадь крепкая. Один раз надо будет остановку сделать, и еще до рассвета, затемно будем в Темрюке.
«Затемно в Темрюке, затемно в Темрюке», стучало в голове у Оленина, сидевшего в скрипучей телеге на ворохе сена и глядевшего в небо. И странно было бы прибыть в Темрюк засветло, он же не Светлюк, глупо скаламбурил Константин Дмитриевич.
Представил себе кромешную улицу. Фонарей, конечно, нет. Домишки с черными окнами. Лай собак. Если даже выглянет луна, ее свет засверкает только на поверхности грязных луж. И это навсегда…
Ногаец мычал унылую, лишенную мелодии песню. Оживленный дорогой Герасим без умолку говорил. Он был философ.
— Что это вы, Константин Дмитрич, всё киснете, печенку себе грызете? Жить вы не умеете, вот что. Учитесь жить у книжек, а надо у кошек.
— Что ты врешь? Каких кошек?
— Обыкновенных, вроде Мумырки, что у нашей хозяйки на крыльце сидела. Кошка она чему учит? Что тебе Бог дал, тому и радуйся. Жмурься на солнышке, оно тебе и счастье. А человеку жить лучше, чем кошке. Мы чай не мышами кормимся.
— Да ну тебя к черту. Однако покормиться бы не мешало. С утра ничего не ел.
Телега как раз выезжала на темрюкский тракт, и вдали показался трактир — тот самый, где Оленин две с лишком недели назад проигрался.
— И то, — раздумчиво молвил Герасим. — У меня тож брюхо подвело. А еще не переиначить ли? Этого (он кивнул на ногайца) я рассчитаю, суну рубль. Пускай катит в Темрюк на своей таратайке без нас. Переночуем на настоящей постеле, а утром поедем на хороших лошадях. Въедете в Темрюк гордо, не по-вахлацки. И средь бела дня, а то куда мы ночью пристроимся? Решено. Эй, бачка, вези вон туда!