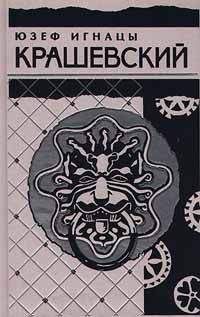Польские военачальники хвалились перед французским двором крылатыми гусарами; их выправку и живописную обмундировку очень одобряли; однако, видавшие гусар в деле, уже тогда поговаривали о необходимых изменениях в вооружении.
Как солдаты, они были безупречны; но неповоротливы и тяжелы на подъем, потому что перегружены массой амуниции, спутывавшей их по рукам и по ногам.
Легче всего было снаряжение регулярного казачества, служившего в коронном войске; между тем по свидетельству современников вот каково было снаряжение казачьего офицера:
На нем была надета не отличавшаяся легкостью кольчуга, а на голове мисюрка с проволочным чепцом [132]; сбоку палаш, за плечами мушкет или лук с колчаном. У пояса целое хозяйство: шило, кремень, нож, шесть серебряных ложек, вложенных одна в другую, в красном сафьяновом чехле; здесь же за поясом был небольшой пистолет, парадная накидка, тисненая из кожи чарка для воды, сумка для бумаг и денег, гребень, всякая другая мелочь и пук шелковых бечевок для связывания пленных. Все это висело справа, потому что слева был палаш.
Кроме того, к седлу были прицеплены: деревянная бадейка, чтобы поить лошадь; три смены кожаных пут, чтобы треножить; лядунка для мушкета, роговая пороховница и еще много чего другого. А гусары с крыльями у седел, с тяжелыми кончарами, нередко со щитами, луками, колчанами, длинными копьями, в панцирях, кольчугах, мисюрках или шлемах были обременены еще более нежели казаки.
Но в поле, в развернутом строю, когда ветер шелестел концами длинных прапоров, а солнце тысячами искр играло в бляхах конских сбруй, переливалось на позолоте седел, в наголовках и подвесках челок, когда из тысячей железных грудей раздалась песнь Богородице, и ответным зовом откликнулись трубы и литавры, заржали кони… когда рыцарский дух воспламенил сердца отборных, молодец к молодцу, рослых, как исполины, воинов… тогда перед изумленными глазами, как бы воскресали образы давно минувшей, легендарной старины…
Дорого стоили тогда солдаты, с леопардовыми шкурами и персидскими коврами на плечах, с конскими наборами, украшенными бирюзою и рубинами, струившимися вдоль хребтов, с золотыми и серебряными кованными орлиными крыльями… так дорого, что страна, содержавшая такое войско, естественно была приманкой хищников. А об обозах, тянувшихся за каждым из военачальников, нередко возивших с собой, золотую и серебряную утварь, дорогие меха и ценную одежду, уж и говорить нечего…
Таким-то блестящим зрелищем, сиявшим в лучах осеннего солнца, приветствовал Собесский короля.
Не впервые представлялось оно взорам Михаила; но никогда еще не было ни того размаха, ни разнообразия красок, как теперь. Сердце короля должно было исполниться гордостью и уверенностью в своих силах; да и сам Себесский, выводя полки, называя их по имени, — напоминая королю славные страницы из прошлого каждого отдела войск, смело мог гордиться таким войском и высказать надежду, что оно не даст себя разбить скопищу полунагих татар, на маленьких лошадках, вооруженных плохими луками…
Лицо короля расцвело улыбкой щеки вспыхнули, и он низко снимал шляпу перед склонявшимися приветственно знаменами. В начале слабо, потом гораздо гуще, гремели крики — Vivat Rex!
Стать во главе такого войска, сражаться наряду, даже пасть в сражении, казалось ему безмерным счастьем, после всей мученической жизни!
Они объехали уже лучшие полки, а Михаил еще не чувствовал усталости, а лишь по временам озноб. Внезапно, окинув глазом всю ширь поля, лежавшую еще впереди, он внезапно ощутил как бы туманную завесу, опустившуюся перед его глазами и понял, что бледнеет… На лбу выступил холодный пот, внутри что-то засосало и сдавило грудь… сам не зная как он придерживал коня… Собесский, ехавший с ним рядом, не сразу догадался, что случилось, когда подскакал несколько отставший Келпш и подхватил короля в ту самую минуту, когда он, потеряв сознание, склонился на бок и мог свалиться с лошади.
Тщетно старался Михаил удержаться в седле и превозмочь недомогание; пришлось остановиться, придворные соскочили с лошадей и на руках спустили его на землю. Ноги его подгибались; однако, несколько придя в себя, он удержался стоя. Первым его движением, когда сознание вернулось, было оттолкнуть придворных и схватиться за узду. Но, подоспел Браун, а гетман, сойдя с коня, подошел вместе с Яблоновским.
— Ваше величество, — заговорил взволнованно Собесский, — самоубийство, преступление! Мы не можем позволить, чтобы ваше величество напрасно рисковали драгоценной для всех нас жизнью…
— Было… минутное… минутное недомогание… позвольте, — умолял Михаил… — обморок прошел.
— Но может повториться каждую минуту, — перебил, приближаясь, Браун.
— Ваше величество, благоволите сесть в коляску, — настойчиво приступил к королю Яблоновский, — и возвращайтесь в ставку. Немыслимо в таком положении думать не только о войне, но и о простой поездке.
Под влиянием нравственного потрясения королю опять сделалось дурно; он оперся на руку Келпша, побледнел, как смерть, на губах показалась пена и неясно сорвалось слово:
— Каменец!
В состоянии полного изнеможения, из которого старался вывести его, давая капли, Браун, короля на руках снесли в коляску.
Келпш с врачом уселись вместе с ним, а Собесский с Яблоновским продолжали смотр полкам.
Молнией пронеслась весть о болезни короля. Во многих она возбудила сочувствие, другие же, ненавидевшие его, глумились.
— Если он станет во главе войска, как надлежит, когда король идет походом с армией, то-то хорошо пойдут дела! Ведь он никогда не нюхал пороху и не слышал свиста татарских стрел!
В сердце гетмана, может быть впервые, зашевелилась искренняя жалость к нелюбимому властителю. Собесский постоянно находился под впечатлением клевет, которые распространял примас о бесчувствии, равнодушии, чудачествах короля, желая сделать его предметом всеобщей ненависти. Гетман ближе взглянул теперь на Михаила, вник сердцем в его долю, вспомнил все его правление и проникся непритворной жалостью. Одно единственное слово, произнесенное побелевшими устами — Каменец! — произвело переворот в душе гетмана. Он глубоко пожалел, что неоднократно бывал вынужден стать в ряды его противников.
После отъезда короля, в полуобморочном состоянии, гетман спешно кончил смотр и вернулся с Яблоновским в свою палатку. Здесь он излил перед другом свои чувства. Воевода русский признался также, что и на него король произвел впечатление глубоко несчастного человека.
— Вдобавок, — молвил гетман, — она изменяет ему! Мучит и отравляет остаток дней; как же после того не пожалеть несчастного?
— Теперь я понял все, — прибавил воевода, — он хочет идти с нами, чтобы смыть с себя пятно, чтобы очистить свою совесть. — Но можем ли мы принять такую жертву?
— Никогда на свете! — воскликнул Собесский. — Король должен быть обставлен известной помпой и удобствами; тем более больной. Все это будет нас стеснять в походе; для его охраны придется выделить лучшие гвардейские полки, двигаться медлительно… и, в