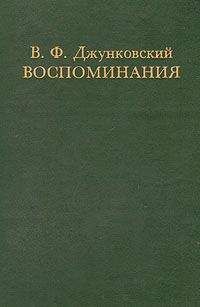«А оттого, что в церкву не хожу, — подумал он мрачно, — чужая воля мною правит… Не в себе я…»
И вспомнил ночную старуху.
Когда медведя, хозяина нашего леса, раньше срока подымают из берлоги, где он до того сладко спал, посасывая теплую лапу, видел сытые сны из меда и земляники и вздыхал с шумом и благодарностью перед матушкой природой, и вот когда его подымают люди, которым до всего есть дело и которые не могут пройти мимо чужой берлоги, ежели там спит медведь, и им обязательно нужно его поднять да пырнуть рогатиной, потому, видите ли, что они ходят, а он спит, и вот когда они его подымают, отрывают от снов и благоговения, душа его не знает ни скорби, ни боли, а только один гнев.
Вот так и Михаил Иванович ощутил в груди жжение, будто горячий, расплавленный сок в нее пролили, а это и был гнев. И, переполненный этим гневом, он спустился вниз пить молоко с опостылевшими ватрушками, чай с медом, но сквозь гнев все, и прошлое, и настоящее, виделось ему чужим, и постылым, и придуманным: и кружевная Дасина зала, и стол с самоваром, и сама Дася, глядящая на него с многозначительной грустью, и князь Долгоруков, и граф Толстой, и жизнь до Тулы и в Туле, и лишь волки, те самые дорожные разбойники, виделись ему настоящими, во всей своей ночной разбойной красе.
Давешняя старуха уже была за столом и прихлебывала с блюдца. Дася сидела рядом, словно именинница.
Михаил Иванович церемонно поклонился, будто он и в самом деле граф. Дася сделала ему ручкой: мол, не мешайте. Старуха молчала. Наконец чай был допит.
— Поживу у тебя до завтрева, — сказала старуха, — а там и обратно пора…
— Пожила бы еще, Серафимовна, — сказала Дася с огорчением. — Куда тебе торопиться?
— Нет уж, милая, нет уж… У тебя мужчин много. — И она неодобрительно взглянула на Шипова.
Лицо у нее было круглое, слегка обрюзгшее, взгляд тяжелый.
Дася вздохнула.
— Благодарствуйте, — сказала старуха обиженно и пошла из комнаты в Настасьину каморку.
Дася снова вздохнула.
— От самого Киева пешком идет, от святых мест, — сказала с благоговением и вдруг рассердилась: — А вот прогнать бы вас, мужланов, а самой помолиться сходить!.. И зачем я мужчин в дом пустила? Грязь, суета… разговоры кругом…
— Дормир? — удивился Михаил Иванович. — Чем же я перед вами провинился?
Она прикоснулась пальчиком к пухлой губке: вот, мол, куда целовал, или позабыл?
— А почему вы скрывали, что вы граф? А?
— Виноват, — заспешил Шипов, — растерялся, се муа…
Ее рука качнулась, показывая какой-то тайный знак. Было непонятно.
— Ну, — сказала Дася, — говорите, где она вас застала?
Дыхание ее участилось. Шипов молчал. Водил глазами по комнате.
— Где? У моих дверей?.. Да говорите же… «Хороший дом, — размышлял Михаил Иванович, — кабы денег поболе, можно было бы очень просто с Дасей договориться. И зажили бы счастливо. Вот, мол, Дядюшка, мои деньги, с имения моего, я его продал, моя, мол, доля. И зажили бы счастливо. Приехал бы вдруг подполковник Шеншин: ты что же это, мол, от дела отстал? Ах, ваше высокородие, мое дело теперь, аншанте, издеся. У меня вот дом свой, супруга-с… А об государе, мол, кто думать должен?.. Нет, ваше высокородие, вы уж меня увольте. Я этого наелси… И жили бы счастливо».
— Я слышала, как вы о дверь мою бакенбардами скреблись, — сказала она шепотом. — Чудовище! Другая бы давно вас прочь прогнала, а я терплю…
— Ей-богу, не виноват…
Тут вышла из каморки странница, оглядела их, хлопнула дверью и направилась в кухню, где Настасья гремела посудой.
— А у вас имение большое? — вдруг спросила Дася, задыхаясь.
— Пятьсот душ.
Она провела ладонью по круглому плечику и поглядела на Шипова.
— Гм, — пробормотал он, — нынче март уже, солнышко…
— Солнышко, солнышко, — прошептала она и запрокинула голову, обнажая шейку.
«Те-те-те-те, — подумал он, — началось…» И вскочил.
Странница вышла из кухни, уставилась, будто сова. Гирос спустился сверху. Он старался не смотреть на Шипова и вдруг увидел странницу.
— Ох, — сказала она, крестясь, — черен-то, черен-то!.. И нос крючком… Да откуда ты, милая, их берешь?
— Я же грек, — захохотал Гирос. — Вы не бойтесь, не бойтесь. — И Дасе: — Она ваша матушка? Да неужели матушка? Какая радость!.. Вы Дарьи Сергеевны матушка?.. А Дарья Сергеевна наш ангел…
«Каналья, — подумал Шипов, — нос бы тебе своротить… За что я ему деньги-то даю? За что?»
— Какая радость! — кричал Гирос, распаляясь. — Да вы со мной не церемоньтесь… Хотите, я вас буду матушкой звать? Мне ведь ничего не стоит… Хотите?
— Сгинь! — гневно крикнула старуха, и круглое лицо ее покрыл румянец.
Она исчезла в каморке, Дверь хлопнула.
И дот пришел вечер. В это время суток, как о нем ни судят с пренебрежением, всегда больше озарений. Толи темнота тому способствует, когда ничто не отвлекает взгляда, то ли окончание дневных забот… И еще не успело, как говорится, мраком наполнить углы, как что-то кольнуло Шилова в темечко и хоровод внезапных озарений заставил его вздрогнуть. Тревога и печаль, обуревавшие его последнее время, не смягчились, но внезапно стало полегче, словно потолки поднялись. Он почувствовал, как некая неведомая ему доселе сила напрягла мускулы, мысли завертелись, одна другой соблазнительней и прекрасней, впереди, не скрытая, как обычно, туканом, проглядывала его конечная пристань, к которой ему должно стремиться: все было необычно как-то, невероятно, и даже его соломенные бакенбарды, когда он к ним прикоснулся, ответили легким потрескиванием.
«Амадей за червонец может удавить. Стало быть, надо поберечься, — решил он легко и просто. — К Дасюшке скорее проникать, хватать ее за белые плечики, покуда она горит вся… Вот, Дасюшка, капитал мой — тыща рублей. Хочу в Туле жить, рядом с графом Толстым… А чего граф? За него ведь деньги дают. Ну, вроде бы он со мной делится доходами своими…»
Среди множества отчаянных комбинаций, лихорадочно бившихся в его воображении, одна вдруг стала обретать формы, цвет и запах и загудела, застонала, привлекая к себе внимание, и он, словно утопающий, рванулся к ней навстречу, пуская пузыри, барахтаясь, плача, простирая руки, и наконец коснулся ее и понял, что спасен.
Он вскочил с кровати, на которой мучился с самого обеда, изобретая новые радости для себя, вскочил, полный неизъяснимого восторга и просветления, разложил на столике бумагу, чернила, перья и пустился в спасительный вояж.
СОВЕРШЕННО СЕКРЕТНО
М. Зимина
Его Высокоблагородию Господину Подполковнику Шеншину
Ваше Высокоблагородие не извольте беспокоиться уж коли я взялся дело будет. Вы мене выговариваете что дескать я не шибко расторопен, а время мол идет и что ради Государя нашего надобно стараться, а я и стараюсь Ваше Высокоблагородие и вот чего придумал.
Вы волнуетесь Ваше Высокоблагородие что мол никак невозможно заговорщиков тех изобличить, нет Ваше Высокоблагородие очень даже возможно. В Туле имеется у меня знакомый наборщик который говорил мне что можно незадорого купить готовые станки для печатания, набрать людей за плату, откупить какой подвал, прибрать в нем, поставить станки, бумагу купить, краски и прочее.
За таким делом можно очень даже просто войти в сношения с заговорщиками будто у нас тоже тайная типография, то есть можно привезти к нам ихнего Графа Толстого, пущай он убедится своими глазами будто мы тоже противу властей стараемся. В етом убедившись почнет он нас считать за своих, и мы за таким делом будем с ними связаны.
Ваше Высокоблагородие поверьте что я не за себя стараюсь и ночей не спал все думал, как их получше раскусить. Вы может подумаете что я ради денег стараюсь, а я ради Государя как Вы меня учили и ради Князя Благодетеля моего. А не будет денег так я ишо чего-нибудь придумаю да время-то уйдет, вот чего жалко.
А в Ясную Поляну попасть очень трудно, у них тйм двадцать мужиков сторожат днем и ночью, а уж поймают — псами затравят, палками забьют, я конечно Князя не выдам благодетеля моего, да зачем же зря помирать? Денег надобно по первому счету 1000 рублей.
Остаюсь Вашего Высокоблагородия Покорный Слуга
М. Зимин
И вот письмо, расправив крылышки, полетело в Москву пугать и тревожить высокое начальство и добывать Шилову хрустящие ассигнации, без которых ничего не могло осуществиться.
Амадей Гирос гулял где-то на свой печальный червонец, как бы вовсе и не заботясь о будущем.
Ночь, как говорится, входила в свои права. Постепенно затихали шаги, скрип половиц, приглушенные разговоры.
Старуха улеглась, вздыхая, в Настасьиной каморке, в то время как Настасья прикорнула в кухне на топчане.
Одна Дарья Сергеевна, Дася, в кружевной гостиной напевала с недоумением, но вскоре и она ушла, хлопнув дверью, и Шипов услыхал, как она шлепает по полу и разговаривает сама с собой, и изредка что-то похожее на тихий стон пролетало по умолкнувшему дому. Михаил Иванович засыпал в страдании и беспокойстве. То проваливался куда-то, то возникал снова. Дыхания не хватало.