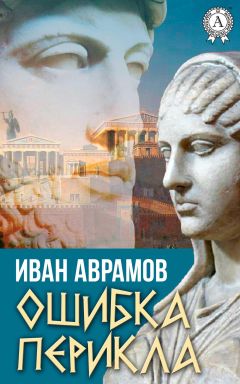Ознакомительная версия.
Народ стал парочками разбредаться по многочисленным углам и закоулкам квартиры. То тут, то там вскипали свары. Были и сцены слегка отвратительного братания. Все измазались кто чем: прованским маслом, губной помадой, помидорными ошметками, липким ликером какао-шуа, соплевид-ными плевками, плевкоидными суселами, сусластым шлаком, а также общим щепетинством и куражистым зазоно-затором. В этой обстановке трудно было вообразить безупречную деву Гликерию, да ее там и не было, ни разу не промелькнула, разве только в его, то есть в моем половинно-четвертичном бреду. [Он кружит Глику над головой (та временами отделяется и совершает самостоятельные кружения), в конце концов он и сам отделяется (кружат вдвоем над крышами какого-то захолустья), и наконец рассаживаются вроде бы на облаке, но со стаканами красного вина]
Юрка Дондерон помчался за Гликой, как только она выскочила из квартиры. Почему-то она не вызвала лифта. Он слышал стук ее каблуков, снижающийся с 12-го этажа их корпуса ВБ. Когда она закончила свой спуск, он уже ждал ее в нижнем холле. «Провожу тебя, если не возражаешь». Она молча кивнула. Они вышли во двор. По случаю праздников главный корпус, ее жилище, включил свою подсветку и теперь стоял над ними со всеми своими двенадцатью подсвеченными гранями, словно сказочный чертог.
«Слушай, Глик, что с тобой сегодня происходит? — спросил он. — Ты сама не своя». С минуту она шла молча, потом остановилась и взяла его за лацкан стильного пиджака со «сваливающимися» плечами. «Знаешь, Юрк, со мной что-то непонятное случилось на Красной площади, — проговорила она. — Мне вдруг стало нестерпимо страшно за Сталина. Вдруг ни с того ни с сего мне показалось, что ему угрожает опасность». Юрка оторопел. «Ну и ну, вот это да! Послушай, Глик, что ему может угрожать? Знаешь, какая там вокруг охрана?» Она оттолкнула его и топнула ногой. «И все равно мне казалось, что в этой огромной ликующей толпе кто-то целится в него из винтовки». Быстро пошла прочь.
Он бросился за ней. «Гёрл, ну и разыгралось у тебя воображение, май гёрл!» Она снова остановилась и на этот раз прижала свою ладонь к его губам. «Замолчи! Прекрати эту свою противную американщину! Ты что, не понимаешь, к чему может привести вся эта ваша дурацкая американщина?! Ты меня приглашаешь в свой стиляжный вертеп, как будто не знаешь, что я член университетского комитета комсомола! А что, если мне начнут задавать вопросы о вас? Что мне тогда прикажешь делать?» Пока она все это кричала ему отчаянным шепотом, он целовал прижатую к его рту ладонь. Наконец она резко отвернулась и снова устремилась прочь. «Не провожай меня!» Он поспешал за ней, растерянно бормоча: «Да что ты, Глика… Да мы же просто отмечаем Первомай… Мы же все-таки все патриоты… Ну просто джаз любим, музыку угнетенных… Ненавидим американскую военщину… Клеймим югославский ревизионизм… Ведь мы же все комсомольцы как-никак… Там, знаешь, дети таких родителей?…» Он попытался положить руку ей на плечо. Она вывернулась и, произнеся загадочную фразу: «Ты уверен, что все?» — бросилась бежать. Дондерон отстал.
Все в эту ночь казалось ей каким-то искажением своего первичного чистого замысла. Например, панно на потолке круглого вестибюля. Там были изображены юные пионеры и пионерки, с восторгом наблюдающие, облокотившись на балюстраду, дерзновенный запуск авиамодели. Каждое утро она пробегала под этим панно, чаще всего его не замечая, но иногда с умилением бросая взгляд на свежайшие яблоковидные рожицы любознательного поколения. Вдруг ей показалось, что она стоит на дне колодца, что ей никогда с этого дна не подняться, а милые рожицы того и гляди превратятся в издевательские поросячьи чушки.
Только в лифте — благо он был пуст — ей удалось подавить поднимающееся к гортани рыдание. Мальчишки, комсомольцы, джазисты, полное извращение чистого замысла, и наконец Таковский с его бредовой «ежовщиной», и наконец эти ухмыльчивые иностранцы, несчастный Юрка погибнет среди похотливых сластен. На своем этаже она сняла туфли, на цыпочках пересекла холл, открыла своим ключом дверь смельчаковской квартиры и, не зажигая света, прошла в его кабинет. Впервые за время его отсутствия она воспользовалась привилегией войти сюда «как образ входит в образ, и как предмет сечет предмет».
Сначала на ощупь, а потом привыкнув к ночному свету, она прошла в его кабинет и прыгнула на широченную тахту, где однажды едва не отдалась его опытным рукам, губам, усам, коленям; Кирилл, где ты? Ей казалось, что она чувствует его запах: смесь коньяка, французского лосьона, табака, а главное — запах его прерывающегося шепота: люблю, люблю, люблю… Как я могла все эти месяцы так над ним издеваться? Все эти бредни о «небесном жениховстве», к чему они? Ведь он настоящий мужчина, солдат, Дон Жуан, как он мог выдерживать мои прихоти, все это глупейшее высокомерие, неуклюжую позу «вечной девственности»? Тоже мне нашлась весталка! Кирилл, быстрее возвращайся! Я немедленно тебе отдамся! Вот именно на этой тахте, здесь, с открытыми шторами, под ночным светящимся небом, над созерцающим Кремлем! Если я разделась перед мальчишкой Дондероном, почему мне не раздеться перед Тезеем? Сразу стащу платье через голову и позволю ему разобраться с бельем так, как он хочет. Сама расстегну ему брюки, возьму его член и вся раскроюсь. Все мои мышцы станут мягкими, эластичными; они ведь все-таки предназначены не для сопротивления, а для ласки. Все мужчины повсюду смотрят на меня как на женщину-ласку, вот такой я и стану с ним! И даже боль первого совокупления не помешает, потому что за ней последует колоссальный прилив любви. Кирилл, люби меня, ллл-юби, ллл-юби, ллл-юби, юби, юби, юби, би меня, би меня, би меня, ббблллююю!
В это время через несколько монументальных чечулинских межквартирных стен начала развиваться другая сцена все усложняющихся межчеловеческих отношений. Ариадна Лукиановна вошла в свою квартиру, зажгла свет в обширной передней, медленно, словно Любовь Орлова в фильме «Весна», сняла и уронила на козетку изящное пальто-труакар, двумя руками освободила слегка растрепанную прическу от маленькой шляпки, продвинулась далее, включила еще один свет и, войдя в полутемную гостиную, совершила несколько кругообразных движений; голова мечтательно откинута вверх, плечи чуть назад, бедра чуть вперед, вальс, вальс в чьих-то надежных и влекущих в глубины венского леса объятиях. Такты вальса еще звучали в ее голове, вкус великолепного экстрасладкого массандровского шампанского еще тревожил душу, и вся обстановка сегодняшнего приема «на высоком уровне» еще живо отзывалась в ублаготворенном организме высотной жительницы.
Послышались быстрые мужские шаги, вспыхнул верхний свет, в гостиную, застегивая китель, вошел сотрудник СБ Фаддей. «Не угодно ли чаю, Ариадна Лукьяновна?»
Она присела на диван. «Чаю, да-да, чаю. И парочку тех, слоеных. Что, Глика у себя?»
«Нет, Глики еще нет. Там вроде бы большой пир у этих, Дондеронов. Родители еще не вернувшись, вот и загуляла золотая молодежь».
Он полетел на кухню и тут же вернулся с подносом: горячий чайник и вазочка тех, слоеных, еще вчера называвшихся «наполеонами». Ариадна с интересом следила за его движениями. Не раз они с мужем удивлялись сноровке этой супружеской пары спецбуфетчиков. Вот уже больше года назад, еще в академическом особняке на Соколе, появилась в семье Новотканных эта услужающая чета и ни разу не вызвала нареканий. Ну Нюра — та все-таки понятней: круглолицая, румяная, с вечной улыбкой на пухлых губках, как-никак подходит под стандарт идеальной домработницы, но вот Фаддей, тот может даже озадачить: грубоватая, хмуроватая солдафонская ряшка мало гармонирует с любезнейшим лакейским тоном и гибкими, словно из «Метрополя», движениями.
«Присаживайтесь, Фаддей, давайте почаевничаем».
Он быстро слетал за дополнительной чашкой и присел на край стула, всей позой показывая, что готов к выполнению последующих пожеланий.
«А что Ксаверий Ксаверьевич, не звонил?» — спросила она.
«Звонил сразу же, как вы отбыли на прием. Он задерживается на объекте и вернется, очевидно, ко Дню Победы».
«А что, больше никто не звонил?» — Она внимательно присматривалась к его лицу. Что-то промелькнуло в буграх лба, заставившее и все лицо как бы шевельнуться этому промелькнувшему вслед.
«Да как не звонить, Ариадна Лукьяновна, ведь праздник! Было шесть звонков с поздравлениями. Я всех записал и оставил у вас на ночном столике».
«На ночном столике?» — переспросила она.
«Да, как вы сказали».
«Я так сказала? На ночном столике?»
«Вы так Нюре сказали, Ариадна… (Сука такая, молниеносно подумал он.)… Лукьяновна».
«Ну, конечно, — подтвердила она. — Я так и сказала. Нюре. На ночной столик». Она отвлеклась от этой малосодержательной беседы, взяла со стола номер «Вечерки» со снимком Мавзолея на первой полосе (кто их так снимает, в упор?), спросила вроде бы между прочим: «А Кирилл Илларионович не звонил?»
Ознакомительная версия.