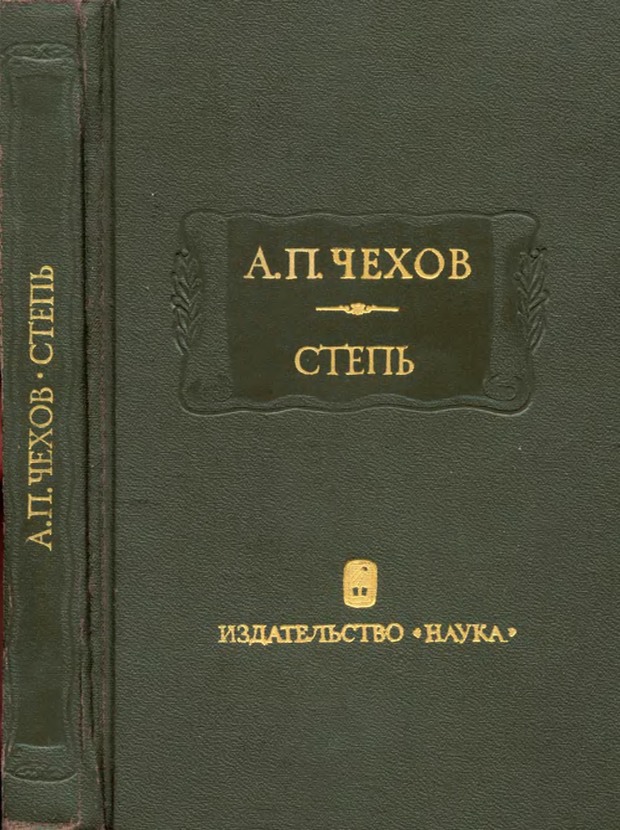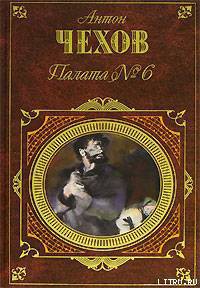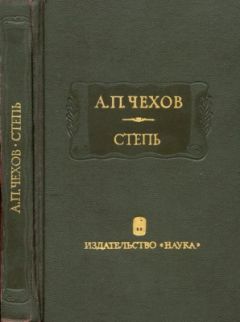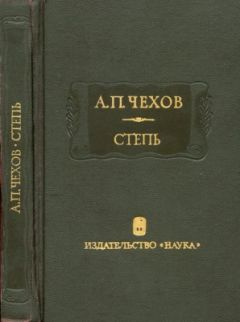ней равняться! Разве вот только что богато живём, да ведь и они, Вахраменки, хорошо живут. Три пары волов и двух работников держат. Полюбил, братцы, и очумел… Не сплю, не ем, в голове мысли и такой дурман, что не приведи Господи! Хочется её повидать, а она в Демидове… И что ж вы думаете? Накажи меня Бог, не брешу, раза три на неделе туда пешком ходил, чтоб на неё поглядеть. Дело бросил! Такое затмение нашло, что даже в работники в Демидове хотел наниматься, чтоб, значит, к ней поближе. Замучился! Мать знахарку звала, отец раз десять бить принимался. Ну, три года промаялся и уж так порешил: будь ты трижды анафема, пойду в город и в извозчики… Значит, не судьба! На Святой пошёл я в Демидово в последний разочек на неё поглядеть…
Константин откинул назад голову и закатился таким мелким, весёлым смехом, как будто только что очень хитро надул кого-то.
— Гляжу, она с парубками около речки, — продолжал он. — Взяло меня зло… Отозвал я её в сторонку и, может, с целый час ей разные слова… Полюбила! Три года не любила, а за слова полюбила!
— А какие слова? — спросил Дымов.
— Слова? И не помню… Нешто вспомнишь? Тогда, как вода из жолоба, без передышки: та-та-та-та! А теперь ни одного такого слова не выговорю… Ну, и пошла за меня… Поехала теперь, сорока, к матери, а я вот без неё по степу. Не могу дома сидеть. Нет моей мочи!
Константин неуклюже высвободил из-под себя ноги, растянулся на земле и подпёр голову кулаками, потом поднялся и опять сел. Все теперь отлично понимали, что это был влюблённый и счастливый человек, счастливый до тоски; его улыбка, глаза и каждое движение выражали томительное счастье. Он не находил себе места и не знал, какую принять позу и что делать, чтобы не изнемогать от изобилия приятных мыслей. Излив перед чужими людьми свою душу, он, наконец, уселся покойно и, глядя на огонь, задумался.
При виде счастливого человека всем стало скучно и захотелось тоже счастья. Все задумались. Дымов поднялся, тихо прошёлся около костра и, по походке, по движению его лопаток, видно было, что он томился и скучал. Он постоял, поглядел на Константина и сел.
А костёр уже потухал. Свет уже не мелькал и красное пятно сузилось, потускнело… И чем скорее догорал огонь, тем виднее становилась лунная ночь. Теперь уж видно было дорогу во всю её ширь, тюки, оглобли, жевавших лошадей; на той стороне неясно вырисовывался другой крест…
Дымов подпёр щеку рукой и тихо запел какую-то жалостную песню. Константин сонно улыбнулся и подтянул ему тонким голоском. Попели они с полминуты и затихли… Емельян встрепенулся, задвигал локтями и зашевелил пальцами.
— Братцы, — сказал он умоляюще. — Давайте споём что-нибудь божественное!
Слёзы выступили у него на глазах.
— Братцы! — повторил он, прижимая руку к сердцу. — Давайте споём что-нибудь божественное!
— Я не умею, — сказал Константин.
Все отказались; тогда Емельян запел сам. Он замахал обеими руками, закивал головой, открыл рот, но из горла его вырвалось одно только сиплое, беззвучное дыхание. Он пел руками, головой, глазами и даже шишкой, пел страстно и с болью, и чем сильнее напрягал грудь, чтобы вырвать из неё хоть одну ноту, тем беззвучнее становилось его дыхание…
Егорушкой тоже, как и всеми, овладела скука. Он пошёл к своему возу, взобрался на тюк и лёг. Глядел он на небо и думал о счастливом Константине и его жене. Зачем люди женятся? К чему на этом свете женщины? Егорушка задавал себе неясные вопросы и думал, что мужчине, наверное, хорошо, если возле него постоянно живёт ласковая, весёлая и красивая женщина. Пришла ему почему-то на память графиня Драницкая, и он подумал, что с такой женщиной, вероятно, очень приятно жить; он, пожалуй, с удовольствием женился бы на ней, если бы это не было так совестно. Он вспомнил её брови, зрачки, коляску, часы со всадником… Тихая, тёплая ночь спускалась на него и шептала ему что-то на ухо, а ему казалось, что это та красивая женщина склоняется к нему, с улыбкой глядит на него и хочет поцеловать…
От костра осталось только два маленьких красных глаза, становившихся всё меньше и меньше. Подводчики и Константин сидели около них, тёмные, неподвижные, и казалось, что их теперь было гораздо больше, чем раньше. Оба креста одинаково были видны, и далеко-далеко, где-то на большой дороге, светился красный огонёк — тоже, вероятно, кто-нибудь варил кашу.
«Наша матушка Расия всему свету га-ла-ва!» [19] — запел вдруг диким голосом Кирюха, поперхнулся и умолк. Степное эхо подхватило его голос, понесло, и, казалось, по степи на тяжёлых колёсах покатила сама глупость.
— Время ехать! — сказал Пантелей. — Вставай, ребята.
Пока запрягали, Константин ходил около подвод и восхищался своей женой.
— Прощайте, братцы! — крикнул он, когда обоз тронулся. — Спасибо вам за хлеб за соль! А я опять пойду на огонь. Нет моей мочи!
И он скоро исчез во мгле, и долго было слышно, как он шагал туда, где светился огонёк, чтобы поведать чужим людям о своём счастье.
Когда на другой день проснулся Егорушка, было раннее утро: солнце ещё не всходило. Обоз стоял. Какой-то человек в белой фуражке и в костюме из дешёвой серой материи, сидя на казачьем жеребчике, у самого переднего воза, разговаривал о чём-то с Дымовым и Кирюхой. Впереди, версты за две от обоза, белели длинные, невысокие амбары и домики с черепичными крышами; около домиков не было видно ни дворов, ни деревьев.
— Дед, какая это деревня? — спросил Егорушка.
— Это, молодчик, армянские хутора, — отвечал Пантелей. — Тут армяшки живут. Народ ничего… армяшки-то.
Человек в сером кончил разговаривать с Дымовым и Кирюхой, осадил своего жеребчика и поглядел на хутора.
— Экие дела, подумаешь! — вздохнул Пантелей, тоже глядя на хутора и пожимаясь от утренней свежести. — Послал он человека на хутор за какой-то бумагой, а тот не едет… Стёпку послать бы!
— Дед, а кто это? — спросил Егорушка.
— Варламов.
Боже мой! Егорушка быстро вскочил, стал на колени и поглядел на белую фуражку. В малорослом сером человечке, обутом в большие сапоги, сидящем на некрасивой лошадёнке