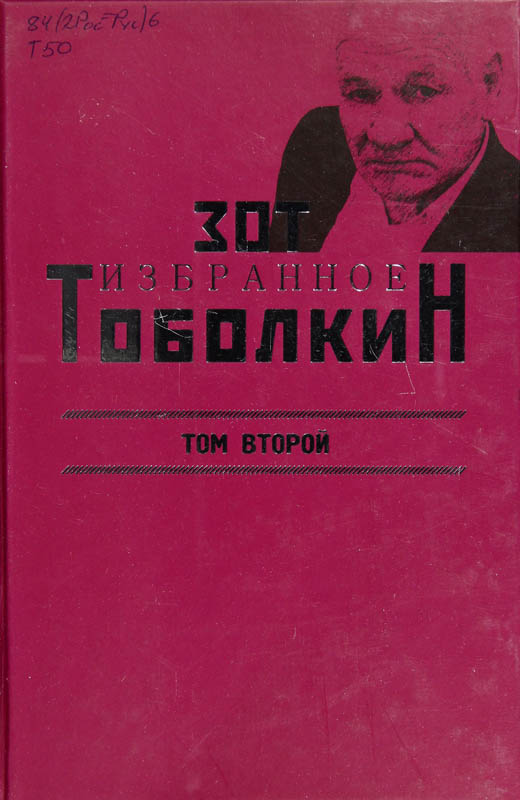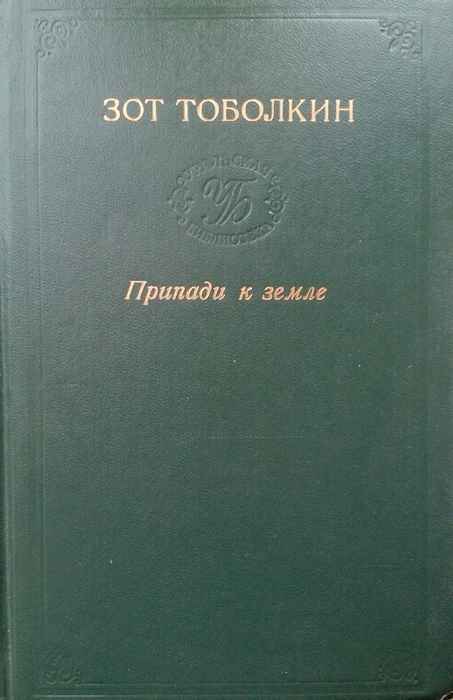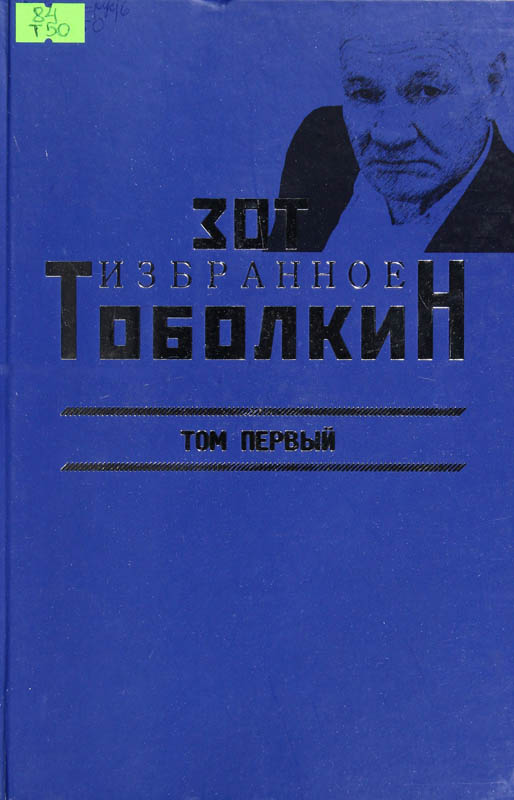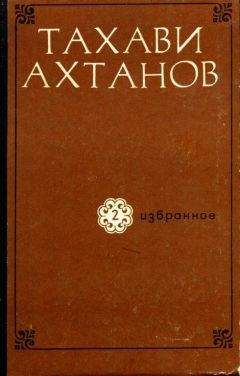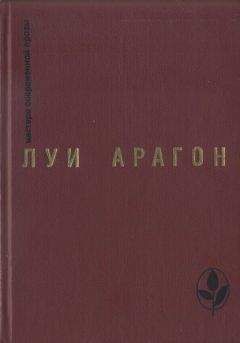и металась от плаката к плакату, что-то шепча себе под нос.
- Оглохла, что ль, Фимушка? Живо за травой! Я печку растоплю. Вишь все продрогли.
Димка, взъерошенный, мокрый, тоже трясся от холода, но был горд, что именно он спас художника. Досадно, что пришлось бросить в воду магнитофон, «Практику» и бинокль. Особенно жалко было бинокль, подаренный дедом. Магнитофон и фотоаппарат отец купит. А вот уж дед ничего не подарит, умер он. Он чем-то напоминал старого художника.
Ведь вот как бывает: встретил незнакомого человека и привязался к нему как к родному. Если б он только выжил! Это такой замечательный, такой щедрый человек! И друг настоящий.
Димка всхлипнул.
- Чо, паренёк? Струхнул малость? – командорша, проявившая редкую выдержку на воде, и здесь была истинной командоршей. – Теперь, голуба, всё позади. Вот только бы друга нашего отстоять! Плох он шибко! Крови потерял много.
Закончив перевязку, отыскала завалявшийся в припечке коробок с одной-единственной спичкой, тщательно отщепала от сухого полена лучину, обернув её бумагой.
- Поди-ка дровец принеси. Выбирай берёзовые, посуше!
Димка трижды сходил за дровами. Травница, расположив дрова в печке, чиркнула спичкой. Бумага взялась, огонёк лизнул бересту, лучину, заиграл, запощёлкивал. Из трубы выплеснулся голубоватый дымок. Веселее стало в неуютном заброшенном доме, словно в него вошёл звонкоголосый ребёнок. Он оживил всех, пробудил от тяжкого забытья Вениамина Петровича. Художник застонал, спросив чуть слышно:
- Где я?..
- На этом свете пока... – усмехнулась травница, ставя на загнёток чугун с водою. – А едва на том не очутился. Как себя чувствуешь?
- Неважно... То есть нормально, – стыдясь признаться в слабости, в боли, залившей всё тело, поправился Петрович. – А жаль...
- Чего жаль-то?
- Путешествие кончилось. И... похоже, навсегда, – закончил он шёпотом, вытянув вдоль тела большие синюшные руки.
«Руки-то как у него посинели!» – ужаснулся Димка и отвёл взгляд.
- Радуйся, что жив. А то бы уж рыб кормил, – сурово утешила Анфиса Ивановна, дивясь, что чудак этот при последнем издыхании жалеет не о жизни, а о каком-то путешествии. Да что с него возьмёшь? Всегда был с вывихами.
- А вы не горюйте, – успокаивая старого друга, залепетал Димка. – Мы ещё поплаваем. Обязательно!
- Вряд ли, Дима. Но это ничего, ничего, – улыбнулся он мальчику.
- Нну, закуксился, – строго нахмурилась командорша, кивая в Димкину сторону: мол, при нём-то зачем о смерти. – Я вот сроду на судьбу не приходила... А чего только не повидала: Крым, Рим и медные трубы...
- Да и я не прихожу. А всё-таки жаль. Так прекрасно всё начиналось.
- Вы отдохните, Вениамин Петрович! Чуть-чуть придёте в себя, и мы опять поплывём.
- Не судьба, Дима. Но это ничего, ничего, – опять забормотал художник, закрыл глаза и со стоном отвернулся. Жил, не отчаивался, а тут вдруг душой заскорбел, ослаб и на глазах превратился в старого, немощного человека, потерявшего веру в себя.
- Отойди, – шепнула Анфиса Ивановна. – Я наговор над ним почитаю.
Она быстро-быстро зашевелила губами, лопоча невнятные, таинственные слова; шёпот знахарки – как ни серьёзен был миг – вынудил Димку улыбнуться. А старик всё так же лежал лицом к стене и не шевелился.
- Он жив? – чуть слышно спросил Димка.
Командорша, взглянув на него, свела суровые брови, но ничего не ответила.
- Не бормочите. Я в ваши наговоры не верю, – отчётливо проговорил художник, и командорша споткнулась.
- Потому что без трав, – помедлив, сказала. – Настой приготовлю – уснёшь.
- Вы лучше о политике мне почитайте. Без газет скучно.
- Тут старые. Может, найду что интересное, – робко предложил Димка и, взяв наугад первую попавшуюся газету, прочёл: – Вот очерк. Какой-то Кузьмин пишет.
- Кузьмин? Это имя встречал... Враль он, по-моему. Но пишет интересно. Читай.
- Постой, – остановила знахарка, распинывая ногами сор и бумагу. – Сперва жильё приведём в порядок. Ишь, захламили...
- Вы как дома, – проворчал Димка, следя за Анфисой Ивановной.
- Дома и есть. Медсестрой тут была. И на фронт отсюда призвали...
- Были на фронте? – Димка совсем не так представлял себе эту властную женщину. Хотя почему бы ей и не быть на фронте? Вон она какая бойкая!
- А ты думал, всю жизнь травой торговала? Нет, парничок, и на мою долю горьких цветов досталось.
«Ещё одно открытие! – дивился художник, – всё более поражаясь этой удивительной женщине. – Столько лет жил рядом и не знал».
- Как же вы... – начал он застенчиво, но лицо исказилось от боли, и мысль его, обидная для Анфисы Ивановны, осталась недоконченной.
- До торговли-то опустилась? – с незлой усмешкой довела женщина. – Я ведь денег-то не прошу... Просто лечу... А люди пишут со всех сторон, Христом-богом молят: помоги... Вышли травки от того-то или от этого... И сами шлют или приносят деньги. Я помогаю чем могу.