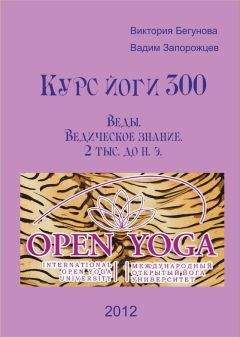Глава тридцать седьмая,
про то, что с горем можно сжиться,
если только оно не сведет с ума
Ах, как стонала душа Алены, когда смотрела она в полинялые от слез материнские глаза! И ладонью, нежностью напитанной, оглаживала она поседевшие прядки, бесплотными губами касалась щек ее, поблекших от частого омовения в жгучей купели слез... А мать думала - теплый ветерок шевелит волосы, сушит слезы. Неудачи стороной дом обходили, а удача будто сама в руки плыла, да какая матери радость с того? Какая удача могла утешить, когда постигло мать самое страшное несчастье - так страшно потерять дитятко милое, ненаглядное. Она и не замечала ничего вокруг. Все шло мимо больных горем глаз, мимо оглохших ушей. Сны легкие, светлые, радостные ночь ее наполняли, но едва открывала мать глаза - отлетали сны бесследно от горестного вздоха-стона, которым мать каждое новое утро встречала. Тяжек ей был новый день, опять прожить его надо было, помня каждый миг о сиротстве своем.
Но мать все же горькому горю своему покорилась, в душе не таила ропота на промысел Господень. А вот Иван... С Иваном беда была. Не хотел он смириться с потерей. Прозвенит ли смех девичий, прошелестит ветер в ветвях, дождик осенний дробно в окошко застучит - метнется Иван взглядом, просветлеет радостно надеждой... да тут же и ссутулится, и потемнеет лицом.
Шли дни. А для Ивана будто все длился тот страшный день когда он метался по краю омута в болезненном, в лихорадочном страхе и неразумной надежде. Вот такой же неразумной надеждой был теперь наполнен каждый его час: вот-вот найдется Алена, вернется опять, - вот! уже!.. ах, все не она...
Сгорал Иван в этой лихорадке. Глаза дурным блеском горели, выдавая хворь душевную: телесная-то боль уходила, а душою он болен делался. Маялся, покою не находил... Может от того, что Аленина душа не упокоилась, вот Иван как будто и знал что-то, да понять не мог.
Он ведь и прежде, как Алена жива еще была, много раз удивлял Алену. Ей по-первоначалу странно это казалось - не диво, что она могла знать, где Иван в любую минуту и что с ним, весел либо печален, здоров ли, иль недужен. А как Иван может так верно про нее догадываться? Потом привыкла, перестала изумляться. Души их так близки сделались, будто в одно срослись. И видно, и доселе так оставалось. И рвался разум Иван между тем, что он знал, и тем, что чувствовал.
Почему мнилось ему, что жива Алена? Почему забывал он, что лежит она в земле. Он помнил все, что было связано со смертью Алены, но одновременно это существовало отдельно от него и Алены. Словно где-то глубоко-глубоко знал он другое: да, все было... но от этого ничто не поменялось.
Уверенность, что жива Алена, сделалась таким навязчиво-болезненным ощущением, что Ивану уже не под силу стало жить с ним. Ведь он только человеком был и прикосновение к ведовству - к тому, что не подлежало разумению человеческому, - сжигало его, не готовую к тому душу, ломало ее. Сгорали его силы в мучительном костре беспредельной боли. И Алена поняла, что совсем близко Иван от того края, за которым не захочет он в этом мире ничего больше без нее. Но, может быть, еще прежде этого надломится разум его от непосильных попыток проникнуть в запретное, закрытое, и заслонится беспамятным безумством... Алена знала теперь, как хрупок человеческий разум.
Глава тридцать восьмая,
в которой Алена не говорит правды
- Иванко!..
- Алена... Аленушка моя!.. Как же долго не шла ты, любушка ненаглядная! - не прикасается к ней Иван, только глаза, горечью до краев налитые, мечутся по лицу ее, будто ищут чего-то... Слова поспешные, несвязные, как в бреду горячечном: - Что не шла ты, люба моя? Знал я, знал, что придешь... Не верил, что вот так меня и оставишь. Только боялся... Сильно боялся увидеть опять такою же, какой омут отдал...
- Ты боялся меня, Иванко? Как живые страшатся мертвых?
- Нет! Нет! Я и не думал про тебя, как... Я знал, что живая ты! И не тебя боялся я, Алена... Горя своего. Боли, когда от сердца ошметья одни... А ты вот какая... Дай мне руки твои...
- Иванко... Любый мой... - шагнула к нему Алена, тихонько провела ладонью по его щеке.
Закрыл глаза Иван, шатнуло его. Переглотнул, хрипло, трудно проговорил:
- Живая... живая ты, лада моя... Лугом земляничным пахнешь... как раньше... я боялся, что холодна ты нездешним холодом... Столь долго мучила она, да отпустила все ж...
- Кто, Иванко?.. Про кого ты?
- Дева... Смерть.
Вздохнула тихо Алена:
- Сон это, Иван.
- Нет! Нет! - отчаянным стоном вырвалось у него. - Не сон! Я верно знаю!
- Иванко, кабы знал ты еще, как горько мне, что убиваешься так. Неправильно это, нельзя. И кручине мера есть. Дальше жить надо.
- Да чем же, Алена?! Все с тобою ушло, все ты взяла... кроме меня. Мне не то чтобы жить - дышать нечем стало. Я будто потерял все в миг один, и себя потерял... и шарю в пустоте, ровно слепой. Знаю - ты где-то близко совсем, да не найду никак!
Алена пристально в глаза его поглядела, еще шагнула, близко совсем, прижалась к нему.
- Иванко, родной... Забудь про все... обними... Сейчас мы вместе. Минута ли, час - сколько б ни было, пусть... Мы вместе!
- Правда, Алена! Дурень я! Вот же! Вот - ты! - прижал Иван крепко Алену, руки будто замком неразъемным скрестил. - Со мной, наконец, со мной, желанная моя! Не отдам! Не пущу никуда!
Долго стояли так. Иван рук не разнимал, не хотел и на миг выпустить Алену. Ну какой же сон, когда всем существом своим впитывал он живое тепло ее, мягкую податливость тела, горячее чистое дыхание! И задыхаясь от нежности, Иван прикасался губами к Алениным глазам, щекам, дыханием ласкал волосы ее, опускал лицо в упругие рыжие завитки и надышаться не мог таким родным, таким знакомым, таким особым духом... Алена гладила трепетными пальцами плечи, грудь любимого, и так пронзительно остры были ей эти прикосновения! Как бесконечно бедна она была, когда руками, тeни бесплотнее, пыталась утишить боль дорогих людей! И как бесконечно долго было то ее бестелесное существование - целую вечность.
- Алена... Неужто и вправду - сон только... - вопреки желанию глухо выговорил Иван.
Помедлив, подняла Алена лицо.
- Ты эту встречу столь сильно ждал... Вот я и пришла.
- Знать, не удержать мне тебя, жаль моя? Отымет утро?
- До утра еще долго, и в каждой минуте столько счастливых мгновений. А утро... Оно будет солнечным, радостным. Я так хочу, чтоб ты увидел это. Ты ведь перестал отличать утренний свет от закатнего сумрака. Неужто думаешь, что велика мне радость видеть это?
- Постой, Алена, погоди... Дай мне уразуметь... Скажи прежде - ведь не сгинула ты в проклятом омуте? Я уже не ведаю, разумен я иль безумен... Знаю, помню, как отпевали тебя, несли на погост... Тело твое бездыханное на руках держал. Но столь же твердо знаю, что жива ты. На могилку твою ни ходил ни разу - незачем, нету в ней тебя, пустота одна... Но где ты? Кто ты сейчас, Алена?
- Не спеши, Иванко. Не для чего спехом разгадки искать, да второпях ответы хватать. Я пришла, чтоб не сокрушался боле разум твой в непосильных трудах. На все отвечу, что спросишь. Времени у нас много.
- Где же много? Ночи так коротки. А эта, боюсь, короче самого краткого мига будет.
- Разве другая не настанет? - тихо улыбнулась Алена.
Расплел Иван руки свои, взял Алену за плечи, отстранил чуть, чтоб глаза увидеть.
- Я ни словом торопить тебя не буду, Алена, что захочешь, то и скажешь. И когда захочешь. Терпению моему предела не будет... если одно только знать буду... Ты уйдешь, чтоб опять вернуться? Не сгинешь навек?
- Я уже вернулась, - ответила Алена.
Она знала, что в этих ее словах, в невысказанном обещании не уходить, только половина правды. Но сейчас еще нельзя было объяснить Ивану всего, он услышал бы только худшую из двух половин.
- Ты лучше погляди, Иванко, узнаешь ли места эти?
- Чего узнавать, коли не забывалось. Луга это, те, первые наши, - не отводя глаз от нее, ответил Иван.
Алена рассмеялась:
- Да ты ведь ни глянул ни разу! Как узнал?
- Я эти луга с завязанными глазами промеж всех угадаю. Воздух здесь ото всех на особицу. Спроси - чем, я и не отвечу... Чем воздух дома родного средь других ни в пример слаще? Вот и места эти мне как родными, вроде, стали.
Мало-помалу ушла тревога с лица Ивана, и уже заиграла, засветилась улыбка в ответ на Аленину, но все же осталось в глубине глаз беспокойство.
- Чего ждешь, Иванко? Тревожишься о чем?
- Алена... проснуться боюсь. Не хочу, а все равно думается, что каждое мгновение потерять тебя могу.
- Не бойся. Внезапно я не исчезну.
- Да сама говоришь - сон. Человек ему не хозяин, нет воли человеческой над сном.
- Верно, человеческой нет. А ведовская - есть. Ведовка я, Иван, не забыл ты? Мой сон это, я ему хозяйка.
Глава тридцать девятая,
где Алена показывает Ивану его настоящее
и предостерегает от будущего
Деревня пустая, сонная. Странно тихая, залитая неживым голубоватым светом и будто зачарованная, замороженная им. Ни голосу, ни шороху, ни лаю сторожкого... Уж из живых во всей деревне ни один ли Иван? В тишине и пустоте улиц сквозь деревню проходит, вот и околица уже. Взгляд его тревожно мечется в поиске ответа - зачем он здесь? почему? Мнилось - будто к Алене торопится, но ее нет нигде, и никто не ждет Ивана. Неужто напрасно сердце ворохнулось, погнало его в ночь, тешась пустой надеждой... Остановился, опустошенный, потерянный - Святый Боже! Вразуми! Ведь и вправду, всего лишь сон был... Как поверил сну? Нет. Не сну - Алене верил. Но она говорила то, о чем душа его страждала, он сам и вложил желанные слова в уста любимой...