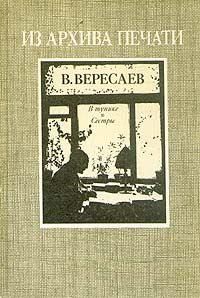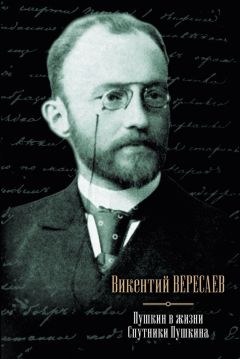– А лица такие неприятные, глаза бегают… Но что было делать? Откажешь, а их расстреляют! Всю жизнь потом никуда не денешься от совести… Провела я их в комнату, – вдруг в дом комендант, матрос этот, Сычев, с ним еще матросы. "Офицеров прятать?" Обругал, избил по щекам, арестовали. Вторую неделю сижу. И недавно, когда на допрос водили, заметила я на дворе одного из тех двух. Ходит на свободе, как будто свой здесь человек.
День тянулся в полумраке, ночь – в темноте. Света не давали. Кате вспомнились древние, – раньше казалось, навсегда минувшие, – времена, когда людей бросали в каменные ямы, и странною представлялась какая-нибудь забота о них. Вспомнился когда-то читанный рассказ Лескова "Аскалонский злодей" и Иродова темница в рассказе. Все совсем так.
Жена директора банка тяжко стонала по ночам от ревматизма. Лица у всех были бело-серые, платья грязные, живые от вшей. Голод, бессветие, дурной воздух. В душах неизбывно жили ужас и отчаяние.
Катя узнала от товарок по заключению, что их камера, Б, – "сомнительная". Из нее переводят либо в камеру А – к выпуску, либо в камеру В – для расстрела. На днях расстреляли двух девушек-учительниц за саботаж и контрреволюционную пропаганду. Катя жадно расспрашивала про них днем, а ночью бледные их тени реяли пред нею в темноте.
Позвали к допросу. Когда Катя входила в просторную комнату особняка, где ждал допрос, ее вдруг стала трепать такая дрожь, и так забилось сердце, что Катя пришла в отчаяние.
Сидело за столом трое, один из них – тот, который на нее тогда стучал кулаком. Сидевший в середине, бритый, спросил:
– Ваше имя, фамилия?
Катя сказала.
– Вы родственница товарища Сартанова-Седого?
– Это к делу не относится! – резко оборвала Катя.
Бритый внимательно поглядел. Тот, прежний, неподвижным взглядом уставился на Катю, и в тяжелых глазах его был уже предрешенный приговор. Третий, широкоскулый, в матросской фуражке, с смеющимся про себя любопытством приглядывался к взволнованному лицу Кати, так странно не соответствовавшему ее резкому тону.
– Бывшее звание ваше?
– Дворянка, – с вызовом ответила Катя. И задыхалась, и прижимала руку к сердцу.
Бритый успокаивающе сказал:
– Да вы не волнуйтесь, дело пустяковое.
Катя с презрением возразила:
– Я вовсе не от допроса вашего волнуюсь.
Бритый предложил рассказать, как было дело. Допрашивал мягко и не враждебно. Катя все рассказала и прибавила, что в "хамском царстве" вовсе не раскаивается, что этот Зайдберг, правда, держался, как хам.
– И я думаю, вы на моем месте, если бы испытали все эти издевательства, тоже сказали бы так.
Бритый улыбнулся тонкими своими губами.
– Ну, я бы выразился осторожнее: назвал бы хамом его, если бы стоил, а не говорил бы вообще о хамском царстве… Можно увести, – обратился он к страже.
Катя еще больше заволновалась.
– Я имею сделать заявление.
– Пожалуйста.
– Вот какое заявление…
И вдруг она перестала дрожать, в душе стало радостно и твердо.
– Я сидела в царских тюрьмах, меня допрашивали царские жандармы. И никогда я не видела такого зверского отношения к заключенным, такого топтания человеческой личности, как у вас… Я сижу в камере подследственных, дела их еще не рассмотрены, может быть они еще даже с вашей точки зрения окажутся невинными. А находятся они в условиях, в которых при царском режиме не жили и каторжники. У тех хоть нары были, им хоть солому давали, им хоть позволяли дышать иногда чистым воздухом. А вы бросаете ваших пленников в темные подвалы, люди лежат на холодном каменном полу, вы их морите голодом. Тюремщики обращаются с ними, как с рабами, кричат на них, говорят им "ты". Неужели же вас ни разу не поинтересовало зайти и посмотреть, как вот здесь, под полом, под вами, живут люди, которых вы лишили свободы?.. И потом. Вы вот выявляете мою вину, – а почему вы не стараетесь выяснить, что ее вызвало? Почему не арестовываете людей вроде этого Зайдберга или вашего Искандера? Они своими действиями гораздо больше подрывают авторитет вашей власти, чем всякие контрреволюционные пропаганды.
Катя все высказала, что у нее накопилось. И когда ее вели назад в тюрьму, в душе было удовлетворение и блаженная тишина.
Рассказала о допросе, и что она им сказала. И вдруг все кругом замерли в тяжелом молчании. Смотрели на нее и ничего не говорили. И в молчании этом Катя почувствовала холодное дыхание пришедшей за нею смерти. Но в душе все-таки было прежнее радостное успокоение и задорный вызов. Открылась дверь, солдат с револьвером крикнул:
– Сартанова! Собирай вещи. Через час к выпуску.
Так говорили, и когда на волю выпускали, и когда уводили на казнь. Вчера выпустили одну из дам, сидевших по доносу прислуги: все писали письма, чтобы передать с нею на волю. Теперь никто. И украдкою все с соболезнованием и ужасом поглядывали на Катю. Ясно было, – все они понимают, что ее переводят в страшную камеру В.
Кате стало весело, и смех неудержимо забился в груди: да неужели это, правда, смерть? И неужели бывает так смешно умирать? Она хохотала, острила, рассказывала смешные вещи. И что-то легкое было во всем теле, поднимавшее от земли, и с смеющимся интересом она ждала: десяток сильных мужчин окружит ее; поведут куда-то, наставят ружья на нее. И им не будет стыдно…
Но оказалось, выпустили на волю. Дома Катя узнала, что за нее сильно хлопотал профессор Дмитревский. Особенный эффект на них произвело, что она – двоюродная сестра Седого. Сообщили ей также, что приходил жилищный контролер и взял ее комнату на учет.
Домовым комитетам было объявлено: кто первого мая не украсит своего дома красными флагами, будет предан суду ревтрибунала. Гражданам предписывалось, под страхом строжайшей революционной ответственности, представить в ревком всю имеющуюся красную материю. Бухгалтер отдела с скрытою улыбкою сообщил Кате, что на табачной фабрике вывешено объявление завкома о поголовном участии в манифестации. Кто не пойдет, будет объявлен врагом пролетариата.
В отделе был получен церемониал манифестации. Дмитревский суетился и напоминал сотрудникам, чтоб ровно к десяти часам все собрались в отдел, а оттуда все вместе двинутся к сборному пункту у фонтана Орам-Тимура (теперь – фонтан Карла Либкнехта). Он рассматривал с художниками знамена и плакаты.
Катя спросила:
– Нужно обязательно участвовать на демонстрации?
– Обязательно!
– А я не пойду. Противно. По принуждению.
Дмитревский растерянно взглянул на нее.
– Конечно, насильно вас никто не станет заставлять. Но желательно, чтоб отдел был представлен полностью.
Белозеров кипуче работал. В театре готовились к постановке "Ткачи", оркестры разучивали революционные марши, инструкторы по пению обучали по фабрикам хоры рабочих.
Катя пошла часам к одиннадцати посмотреть. На панелях в ожидании густо стояли зрители. Катя была уверена, что народу на демонстрации будет позорно мало, и в душе ей хотелось этого.
Был чудесный солнечный день, за деревьями сквера сверкало море. Вдали могуче загремел оркестр. Интернационал. Промчался на автомобиле Белозеров с огромным красным бантом на груди.
Музыка приближалась. Заалели под солнцем развевающиеся знамена, плескались красные флаги на домах.
Старый учитель гимназии, – Катя его однажды видела у Миримановых, – вполголоса говорил соседу:
– Людям одеться не во что, а тысячи аршин материи тратят на флаги и знамена!
За музыкой слышен был хор человеческих голосов. Медленно колыхаясь, надвигались темные массы людей, над ними качались плакаты и знамена.
Маленький мальчик с одушевлением говорил:
– Мама! Мама! Гляди! Вон – они идут! С флагими.
– Значит, крестный ход ихний.
– Осади назад!
Милиционеры грубо оттесняли зрителей винтовками на тротуары. Катя вспомнила прежние первомайские демонстрации и жертвенный огонь мученичества в глазах участников. Никто тогда не расчищал перед ними дороги, и Белозеров бы тогда не обучал рабочих хоров.
Шли мимо ряды красноармейцев с винтовками на плечах, с красными перевязями на руках. Катя увидела в рядах знакомых немцев в касках. Могучие мужские голоса пели, сливаясь с оркестром:
Весь мир насилья мы разроем
До основанья, а затем
Мы наш, мы новый мир построим!
Кто был ничем, тот будет всем.
И шли ряды. Рабочие в пиджаках, работницы в светлых платьях, советские служащие, кокетливые барышни на высоких каблучках, с колеблющеюся походкою. Проплывали плакаты на длинных палках:
Да здравствует международная социальная революция!
Да здравствует книга в руках пролетариата!
– В первый раз слышу, чтоб кто-нибудь желал здоровья книге!
Да здравствует братство трудящихся! Нет ни русских, ни евреев, ни татар, ни немцев! Есть братья-рабочие и враги-капиталисты!
У Кати начинала колыхаться и подъемно звенеть душа от торжественно-боевого темпа музыки, от алого плеска знамен, блеска солнца, от токов, шедших от этой массы людей. Всё шли, шли мимо; обрывки песен выплескивались из живого потока: