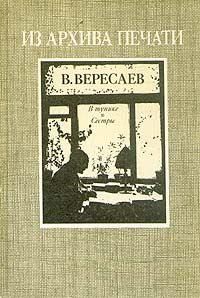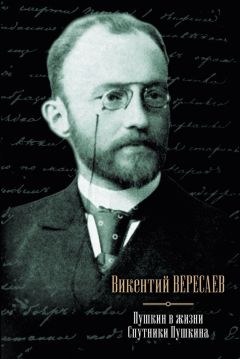Да здравствует международная социальная революция!
Да здравствует книга в руках пролетариата!
– В первый раз слышу, чтоб кто-нибудь желал здоровья книге!
Да здравствует братство трудящихся! Нет ни русских, ни евреев, ни татар, ни немцев! Есть братья-рабочие и враги-капиталисты!
У Кати начинала колыхаться и подъемно звенеть душа от торжественно-боевого темпа музыки, от алого плеска знамен, блеска солнца, от токов, шедших от этой массы людей. Всё шли, шли мимо; обрывки песен выплескивались из живого потока:
Мы потеряем лишь оковы,
Но завоюем целый мир!
Людские волны укатывались к площади, и новые надвигались.
Вперед, друзья! Идем все вместе,
Рука с рукой, и мысль одна!
Кто скажет буре: "Стой на месте!"
Чья власть на свете так сильна?
Задержка какая-то впереди, процессия остановилась. Худощавый рабочий средних лет, державший палку от плаката, отер пот с лысеющей головы, довольно улыбнулся, поглядел вперед, назад.
– Бог даст, одолеет рабочий класс капитал, тогда будет хорошо!
У Кати больно защемило в душе. Вспомнились гнусные подвалы и безвинные люди в них с опухлыми лицами, раскосые глаза Искандера, тлеющие темно-кровавым огнем… Не может же этот не знать обо всем! А если знает, – как может смотреть так благодушно и радостно?
Опять двинулись. Плакат:
Женщины Востока! Вы были рабынями мужчин, теперь вы стали свободными людьми! Дружно на общую работу для счастья трудящихся!
Шли рядом татарки, всё молодые, в низких фиолетовых бархатных шапочках, сверкавших позументами и золотом. Ярче позументов сверкали прелестные глаза на овальных лицах. Как будто из мрачных задних комнат только что выпустили этих черноглазых девушек и женщин на вольный воздух, и они упоенно оглядывали залитый солнцем прекрасный мир.
Море голов и лес знамен на Генуэзской площади (теперь – площадь Урицкого). Трибуна, обтянутая красным сукном, с зелеными ветвями мимоз. Один за другим всходили ораторы. Воздух был насыщен радостным электричеством победного торжествования. Катя видела вокруг жадно прислушивающиеся лица, празднично светящиеся глаза. И как будто не отдельные души были в людях: одна общая душа, большая, как море, торжествовала какое-то великое достижение. Иногда Катю втягивало и уносило с собою это общее настроение – и потом вдруг отшатывало: столько злобы и ненависти было в несшихся призывах. Зачем? Зачем теперь? Неужели и так не слишком много этой ненужной злобы? Почему ни одного призыва к благородству и великодушию победителей?
Выступил Леонид. Его речь понравилась Кате. Ругнул буржуев, империалистов и стал говорить о новом строе, где будет счастье, и свобода, и красота, и прекрасные люди будут жить на прекрасной земле. И опять Катю поразило: волновали душу не слова его, а странно звучавшая в них музыка настроения и крепкой веры.
А потом над трибуной появилась огромная седая голова профессора Дмитревского. В последнее время Катя морщилась от некоторых его поступков, ей казалось, – слишком он приспособляется, слишком не прямо ходит. Но тут он ее умилил. Ни одного злобного призыва. Он говорил о науке и ее великой, творческой роли в жизни. Чувствовалось, что наука для него – светлая, благостная богиня, что она все может сделать, и что для нее он пожертвует всем.
Дрогнувшим от волнения голосом профессор закончил так:
– Товарищи! Бывают моменты в истории, когда насилие, может быть, необходимо. Но истинный социализм может быть насажден в мире не винтовкой, не штыком, а только наукою и широким просвещением трудящихся масс!
Катя шла на службу и встретилась на улице с профессором Дмитревским. Он взволнованно держал в руке газету.
– Вот. Читали? О первомайском празднике?
– Нет.
– Прочтите.
В отчете, подписанном "Спартак", заключительные слова речи профессора были изложены вот как:
"Товарищи! Помните: в условиях переживаемого момента социализм сумеет насадиться не прекраснодушной болтовней мягкотелых соглашателей, а только беспощадной винтовкой и штыком в мозолистой руке рабочего!"
Профессор в бешенстве воскликнул:
– Что же это? Я иду в редакцию. Пойдемте вместе.
В грязной комнатке, заваленной стопами бумаги, пахло керосином от типографского мотора и скипидаром. Суровый господин в золотых очках, услыхав имя профессора, расцвел, почтительно усадил его и сочувственно выслушал.
– Это Спартак отчет давал… Спартак! Поди-ка сюда!
Медленною походкою из соседней комнаты вошел болезненный молодой человек с ленивою, добродушною усмешкою, пережевывая кусок хлеба с сыром… Катя изумилась: так вот какой этот Спартак!
Он слушал профессора, улыбаясь сконфуженною улыбкою.
– Я очень извиняюсь… Значит, я не расслышал. Но теперь что же можно сделать? Что написано пером, того не вырубишь и топором.
– Ну, уж нет, товарищ, извините! Вырубайте хоть топором, а я так оставить этого не могу.
С доброю своею улыбкою Спартак убеждающе возразил:
– А не все вам равно, профессор?
Катю дрожь омерзения охватила. О, да! Ему, этому писаке, – ему все равно! И с этою доброю улыбкою…
– Я категорически требую, чтобы напечатано было мое письмо в редакцию. Вот оно. Здесь только восстановлено то, что я действительно сказал.
Они в замешательстве прочли. Редактор в золотых очках помолчал и сказал:
– Да, конечно, это полное ваше право. Но завтрашний номер, воскресный, уже сверстан, в понедельник газета не выходит. Так что, к сожалению, сможем поместить только во вторник… А кстати, профессор: не можете ли вы нам давать время от времени популярно-научные статьи, доступные пониманию рабочей массы? Мы собираемся расширить нашу газету.
– Об этом может быть речь, когда появится опровержение.
Профессор с Катей вышли. Катя воскликнула:
– Не напечатают! Вот увидите!
– Нет, это не может быть.
– Да как же им напечатать? "Не штыком, а просвещением". Когда они именно проповедуют, что штыком. – Катя засмеялась. – И очутились вы, Николай Елпидифорович, в их компании!
Во вторник письмо не появилось, и редактор по телефону очень извинялся. Потом оказалось, метранпаж затерял заметку. Редактор просил непременно прислать новую и опять очень извинялся. Наконец, оказалось, – времени прошло уже столько, что решительно не имело смысла печатать: все давно уже забыли и о самом-то празднике.
У подъезда "Астории" стояла телега, нагруженная печеным хлебом, а на горячих хлебах лежал врастяжку ломовой извозчик. Мимо равнодушно проходили люди. Катя, пораженная, остановилась.
– Товарищ! Да что же вы такое делаете? Ведь вы весь хлеб примяли, посмотрите, что с ним стало!
Ломовик лениво оглядел ее.
– А тебе что?
– Как что? Ведь этот хлеб люди будут есть. Вы подумайте, – выдают сейчас по полфунта в день. И вот, вместо хорошего хлеба, получат они слежавшуюся замазку, да еще испачканную вашими сапогами.
Ломовой зевнул и стал крутить папиросу.
– Съедят и так.
Катя стала говорить об общественной солидарности, что теперь больше, чем когда-нибудь, нужно думать и заботиться друг о друге, что теперь, когда нет хозяев, каждый сам обязан следить, чтобы все делалось хорошо и добросовестно.
Ломовик усмехнулся.
– Э! – Повернулся на другой бок и стал чиркать зажигалкой, гаснувшей под ветром.
У крыльца стоял в каске тот немец, с которым Катя недавно обедала. Они переглянулись. Немец покрутил головою, улыбнулся и, как бы отвечая на что-то Кате, сказал:
– Nein, es wird bei Ihnen nicht gehen (Нет, дело у вас не пойдет)!
А у Миримановых происходило что-то странное. Вечером, когда темнело, приходили поодиночке то гимназист, то настороженно глядящая барышня, то просто одетый человек с интеллигентным лицом. Мириманов удалялся с пришедшим в глубину сада, они долго беседовали в темноте, и потом посетитель, крадучись, уходил.
Катя иногда встречалась с Леонидом. Она рассказывала ему о своих впечатлениях, хотела докопаться, как он относится ко всему происходящему. Леонид либо отвечал шуточками, либо, с пренебрежительно-задирающею усмешкою, одобрял все, о чем рассказывала Катя.
– И это, по-твоему, допустимо? Это хорошо?
– Великолепно! Так и надо! Революция, матушка! Ее в лайковых перчатках делать нельзя. Наденешь, – все равно, сейчас же раздерутся.
А когда Катя попадала в слишком чувствительное место, Леонид становился резок и начинал говорить каким-то особенным тоном, – как будто говорил на митинге, – не для Кати, а для невидимой, сочувствующей толпы, которая должна облить Катю презрением и негодованием. И они враждебно расходились.
Катя, как всегда, старалась дорыться до самого дна души, – что там у человека, под внешними словами? Было это под вечер. Они сидели в виноградной беседке, в конце миримановского сада. И Катя спрашивала:
– Ну, как же, – неужели у вас на душе совершенно спокойно? Вот, жили здесь люди, их выбросили на улицу, даже вещей своих не позволили взять, – и вселили вас. И вы живете в чужих квартирах, пользуетесь чужими вещами, гуляете вот по чужому саду, как по своему, и даже не спросите себя: куда же тем было деться?