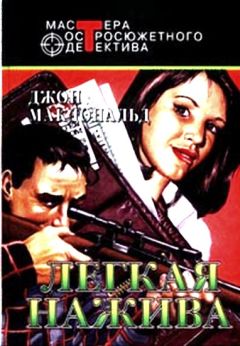Дарвинъ и Мартынъ, мгновенно сжавъ кулаки, подняли согнутыя въ локтяхъ руки (правая заслоняетъ животъ, лeвая ходитъ поршнемъ) и принялись упруго и живо переступать на напряженныхъ ногахъ, словно потанцовывая. Въ эту минуту Мартыну еще казалось невозможнымъ ударить Дарвина въ лицо, въ это большое, гладко-выбритое, доброе лицо съ мягкими морщинками у рта; но когда кулакъ Дарвина вдругъ вылетeлъ и Мартына треснулъ по челюсти, все измeнилось: пропалъ страхъ, стало на душe хорошо, свeтло, а звонъ въ головe отъ встряски пeлъ о Сонe, - настоящей виновницe поединка. Увильнувъ отъ новаго выпада, онъ хватилъ Дарвина по его доброму лицу, {143} во время нырнулъ (стремительная рука Дарвина метеоромъ пронеслась надъ самымъ теменемъ) и хотeлъ двинуть еще разъ снизу вверхъ, но промахнулся и получилъ самъ въ глазъ такой черный и звeздный ударъ, что пошатнулся и уже не могъ отклониться отъ пяти-шести кулаковъ, летавшихъ вокругъ его головы, но самый опасный изъ нихъ ему все же удалось пропустить черезъ плечо: нагнувшись, онъ обманулъ Дарвина проворнымъ маневромъ и со всей силы хряпнулъ его по мокрому, твердому отъ зубовъ рту, - и тутъ же самъ екнулъ, почувствовавъ, словно налетeлъ животомъ на торчащiй конецъ желeзнаго бруса. Оба отскочили другъ отъ друга и пошли опять кружить, и у Дарвина изъ угла рта текла красная струйка, и онъ дважды сплюнулъ. Схватились снова. Джонъ, задумчиво покуривая трубку, мысленно противопоставлялъ опытность Дарвина быстротe Мартына и думалъ, что, пожалуй, въ рингe онъ, выбирая между этими двумя тяжеловeсами, отдалъ бы предпочтенiе старшему. У Мартына лeвый глазъ закрылся и уже распухъ, и оба бойца были мокрые и лоснящiеся, въ красноватыхъ пятнахъ. Вадимъ межъ тeмъ разошелся, что-то азартно кричалъ, Джонъ на него шикалъ. Бабахъ въ ухо: Мартынъ не удержался на ногахъ, и, пока онъ валился, Дарвинъ успeлъ его еще разъ хватить, и Мартынъ сильно сeлъ на траву, ушибивъ копчикъ, но тотчасъ вспрянулъ и налетeлъ. Несмотря на боль въ головe, на глухоту, на багровый туманъ въ глазахъ, Мартыну казалось, что онъ причиняетъ Дарвину больше увeчiй, чeмъ тотъ ему, но Джонъ, знатокъ бокса, уже ясно видeлъ, что Дарвинъ только входитъ во вкусъ, еще немножко, и младшiй будетъ уложенъ. Мартынъ, однако, {144} чудомъ выдержалъ рeшительный напоръ Дарвина, состоявшiй изъ звучныхъ заушинъ, кои зовутся раскатихами, и успeлъ еще разъ брякнуть его по рту, а случайно коснувшись своихъ бeлыхъ штановъ, оставилъ на нихъ красный отпечатокъ. Онъ дышалъ съ присвистомъ, мало уже соображалъ, и то, что было передъ нимъ, называлось уже не Дарвинъ, - и вообще не носило человeческаго имени, - а было только розовой, скользкой, быстроходной громадой, по которой слeдовало шмякать изъ послeднихъ силъ. Ему удалось очень плотно и ладно ударить куда-то, - куда - онъ не видeлъ, - но тотчасъ множество кулаковъ, справа, слeва, куда ни сунься, продолжало его обрабатывать, онъ упрямо искалъ въ этомъ вихрe брешь, нашелъ, забарабанилъ по какой-то чмокающей мякинe, почувствовалъ вдругъ, что у самого отлетаетъ голова, и, поскользнувшись, повисъ на Дарвинe, зажимая сдвинутыми локтями его мокрыя, горячiя руки. "Время!" - донесся вдругъ изъ отдаленныхъ пространствъ голосъ Джона, и бойцы расцeпились, Мартынъ рухнулъ на мураву, Дарвинъ, улыбаясь окровавленнымъ ртомъ, присeлъ рядомъ, нeжно перекинулъ руку черезъ его плечо, и оба замерли, склонивъ головы и тяжело дыша.
"Надо вамъ обмыться", - сказалъ Джонъ, а Вадимъ, съ опаской подойдя, сталъ разглядывать ихъ разбитыя лица. "Ты можешь встать?" - съ участiемъ спросилъ Дарвинъ; Мартынъ кивнулъ и, опираясь на него, выпрямился, и они въ обнимку направились къ рeкe; Джонъ похлопалъ ихъ по холоднымъ голымъ спинамъ; Вадимъ пошелъ впередъ, отыскалъ укромный затончикъ; Дарвинъ помогъ Мартыну хорошенько обмыть лицо и торсъ, а потомъ Мартынъ {145} сдeлалъ для него тоже, - и оба тихо и участливо спрашивали другъ у друга, гдe болитъ, не жжетъ ли вода.
XXX.
Сумерки уже переходили въ ночь, щелкали соловьи, дымные луга и темный прибрежный кустарникъ дышалъ сыростью. Джонъ въ своей черной пирогe исчезъ въ туманe рeки. Вадимъ, опять стоя на ютe, призрачно бeлeясь во мракe, безмолвно, съ лунатической плавностью, погружалъ свой призрачный шестъ. Мартынъ и Дарвинъ лежали рядомъ на подушкахъ, размаянные, томные, опухшiе, и глядeли тремя глазами на небо, по которому изрeдка проходила темная вeтвь. И это небо, и вeтвь, и едва плещущая вода, и фигура Вадима, таинственно облагороженнаго любовью къ плаванiю, и цвeтные огни бумажныхъ фонарей на носахъ встрeчныхъ шлюпокъ, и мысль, что на-дняхъ конецъ Кембриджу, что въ послeднiй разъ, быть можетъ, они втроемъ скользятъ по узкой туманной рeкe, - все это для Мартына сливалось во что-то удивительное, очаровательное, а свинцовая боль въ головe и ломота въ плечахъ тоже казались ему возвышеннаго, романтическаго свойства: ибо такъ плылъ раненый Тристанъ самъ другъ съ арфой.
Еще одна послeдняя излучина, и вотъ - берегъ. Берегъ, къ которому Мартынъ присталъ, былъ очень хорошъ, ярокъ, разнообразенъ. Онъ зналъ, однако, что, напримeръ, дядя Генрихъ твердо увeренъ, что эти три года плаванiя по кембриджскимъ водамъ пропали даромъ, {146} оттого что Мартынъ побаловался филологической прогулкой, не Богъ вeсть какой дальней, вмeсто того, чтобы изучить плодоносную профессiю. Мартынъ же по совeсти не понималъ, чeмъ знатокъ русской словесности хуже инженера путей сообщенiя или купца. Оказалось, что въ звeринцe у дяди Генриха, - а звeринецъ есть у каждаго, - имeлся, между прочимъ, и тотъ звeрекъ, который по-французски зовется "чернымъ", и этимъ чернымъ звeрькомъ былъ для дяди Генриха: двадцатый вeкъ. Мартына это удивило, ибо ему казалось, что лучшаго времени, чeмъ то, въ которое онъ живетъ, прямо себe не представишь. Такого блеска, такой отваги, такихъ замысловъ не было ни у одной эпохи. Все то, что искрилось въ прежнихъ вeкахъ, - страсть къ изслeдованiю невeдомыхъ земель, дерзкiе опыты, подвиги любознательныхъ людей, которые слeпли или разлетались на мелкiя части, героическiе заговоры, борьба одного противъ многихъ, - все это проявлялось теперь съ небывалой силой. То, что человeкъ, проигравшiй на биржe миллiонъ, хладнокровно кончалъ съ собой, столь же поражало воображенiе Мартына, какъ, скажемъ, вольная смерть полководца, павшаго грудью на мечъ. Автомобильная реклама, ярко алeющая въ дикомъ и живописномъ ущельe, на совершенно недоступномъ мeстe альпiйской скалы, восхищала его до слезъ. Услужливость, ласковость очень сложныхъ и очень простыхъ машинъ, какъ, напримeръ, тракторъ или линотипъ, приводили его къ мысли, что добро въ человeчествe такъ заразительно, что передается металлу. Когда надъ городомъ, изумительно высоко въ голубомъ небe, аэропланъ величиной съ комарика выпускалъ нeжныя, молочно-бeлыя {147} буквы во сто кратъ больше него самого, повторяя въ божественныхъ размeрахъ росчеркъ фирмы, Мартынъ проникался ощущенiемъ чуда. А дядя Генрихъ, подкармливая своего чернаго звeрька, съ ужасомъ и отвращенiемъ говорилъ о закатe Европы, о послeвоенной усталости, о нашемъ слишкомъ трезвомъ, слишкомъ практическомъ вeкe, о нашествiи мертвыхъ машинъ; въ его представленiи была какая-то дьявольская связь между фокстротомъ, небоскребами, дамскими модами и коктейлями. Кромe того, дядe Генриху казалось, что онъ живетъ въ эпоху страшной спeшки, и было особенно смeшно, когда онъ объ этой спeшкe бесeдовалъ въ лeтнiй день, на краю горной дороги, съ аббатомъ, - межъ тeмъ, какъ тихо плыли облака, и старая, розовая аббатова лошадь, со звономъ отряхиваясь отъ мухъ, моргая бeлыми рeсницами, опускала голову полнымъ невыразимой прелести движенiемъ и сочно похрустывала придорожной травой, вздрагивая кожей и переставляя изрeдка копыто, и, если разговоръ о безумной спeшкe нашихъ дней, о власти доллара, объ аргентинцахъ, соблазнившихъ всeхъ дeвушекъ въ Швейцарiи, слишкомъ затягивался, а наиболeе нeжные стебли уже оказывались въ данномъ мeстe съeденными, она слегка подвигалась впередъ, при чемъ со скрипомъ поворачивались высокiя колеса таратайки, и Мартынъ не могъ оторвать взглядъ отъ добрыхъ сeдыхъ лошадиныхъ губъ, отъ травинокъ, застрявшихъ въ удилахъ. "Вотъ, напримeръ, этотъ юноша, - говорилъ дядя Генрихъ, указывая палкой на Мартына, - вотъ онъ кончилъ университетъ, одинъ изъ самыхъ дорогихъ въ мiрe университетовъ, а спросите его, чему онъ научился, на что онъ способенъ. {148} Я совершенно не знаю, что онъ будетъ дальше дeлать. Въ мое время молодые люди становились врачами, офицерами, нотарiусами, а вотъ онъ, вeроятно, мечтаетъ быть летчикомъ или платнымъ танцоромъ". Мартыну было невдомекъ, чего именно онъ служилъ примeромъ, аббатъ повидимому понималъ парадоксы дяди Генриха и сочувственно улыбался. Иногда Мартына такъ раздражали подобные разговоры, что онъ былъ готовь сказать дядe - и, увы, отчиму - грубость, но во время останавливался, замeтивъ особое выраженiе, которое появлялось на лицe у Софьи Дмитрiевны всякiй разъ, какъ Генрихъ впадалъ въ краснорeчiе. Тутъ была и едва проступавшая ласковая насмeшка, и какая-то грусть, и безсловесная просьба простить чудаку, - и еще что-то неизъяснимое, очень мудрое. И Мартынъ молчалъ, втайнe отвeчая дядe Генриху примeрно такъ: "Неправда, что я въ Кембриджe занимался пустяками. Неправда, что я ничему не научился. Колумбъ, прежде, чeмъ взяться черезъ западное плечо за восточное ухо, отправился инкогнито для полученiя кое-какихъ справокъ въ Исландiю, зная, что тамошнiе моряки - народъ дошлый и дальноходный. Я тоже собираюсь изслeдовать далекую землю".